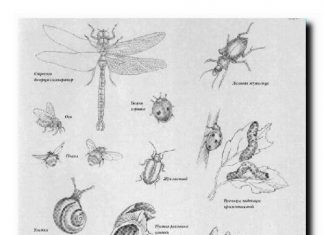Трудно в истории искусства России найти эпоху, которая оправдывала бы формулу «искусство – симптом болезни общества» в большей мере, нежели 1880-е годы. По крайней мере, в живописи состояние духа русского общества, его реакция на кровавое начало десятилетия – убийство царя-освободителя Александра II и казнь «первомартовцев» – проявились с пугающей очевидностью. 1880-е годы в истории России начинались событием, которое, как мрачная черта, отделила время реформ Александра II от периода реакции и контрреформ. Если в 1878 году народоволка Вера Засулич, стрелявшая в петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова (он отдал приказ наказать розгами политического заключенного Боголюбова), была судом присяжных оправдана, теперь такой исход дела был бы абсолютно невозможен.
Александр III принимает жесткие меры. Пятеро народовольцев казнены публично. В августе 1881 года издано чрезвычайное «Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного спокойствия». В 1882 году политические дела изымаются из ведения суда присяжных. Ограничены возможности земства. К этому времени был сменен кабинет министров, новый кабинет возглавил реакционнер Д. А. Толстой.
Огромное влияние на Александра III приобретает обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев. Принимаются меры и к ограничению прогрессивной прессы, закрываются, в частности, «Отечественные записки». Уничтожается университетская автономия. И, естественно, цензура становится особенно строгой. Именно в эти годы историческая живопись выходит в авангард русского реализма. Ее расцвет, закономерно соответствующий развитию системы жанров критического реализма, совпадает по времени со сложнейшей социально-исторической ситуацией. Сейчас, когда ревизуется и во многом переписывается русская история предреволюционных десятилетий, не модно ссылаться на В. И. Ленина, и все же напомним, что он очень точно определял 1880-е годы как время «разнузданной, невероятно бессмысленной и зверской реакции» и одновременно – как эпоху «мысли и разума»: реакция была ответом на террор, развернувшийся в стране, а революционеры, посаженные в тюрьмы, получили возможность осмыслить происшедшее.
По законам нравственности зло порождает и множит зло, даже если оно есть реакция на злое деяние. Жесткая политика подавления всех проявлений революционного сознания загнала болезнь внутрь: в тюремных камерах шел активный процесс развития революционной мысли, создавались основы социал-демократического мировоззрения после краха народнической идеологии. «Время было тяжелое, унылое и печальное, – вспоминает один из современников. – Но мало кто из среды интеллигенции это сознавал и понимал. Мало у кого хватило духа и характера признать собственное банкротство, увидеть себя в настоящем неприкрашенном виде» (Волжанин О. Чехов и интеллигенция // Русское слово. 1904. 5 июля. №185).
«Царством тьмы» называет эпоху Александра III Василий Поленов в своих горьких размышлениях о судьбах России после подавления революции 1905 года. Трагическим мироощущением окрашена русская историческая живопись 1880-х годов. Страдания и муки – отдельного человека и целого народа – главный предмет изображения, казни и смерть – главный мотив. 1880-е годы – эпоха расцвета реалистической системы жанров.
Приближающийся кризис Товарищества публике незаметен – его чувствуют даже не все передвижники. Внешне все обстоит как нельзя лучше. Художникам сопутствует поддержка прогрессивного общественного мнения. Формируется художественный рынок, активно проявляют себя меценаты, и прежде всего П. М. Третьяков. Но главное, что стимулирует расцвет именно исторической живописи, – это внутриполитическая ситуация, в которой мельчает литература, придавленная цензурой. Живопись становится едва ли не основным средством стимулирования общественного сознания, сохраняя возможность вынести на поверхность созревающие в его недрах идеи.
Но теперь и в живописи обличение современного общественного устройства становится менее безопасным, нежели исторический анализ прошлого, также, впрочем, далеко не всегда пропускаемый мимо ушей власть предержащими. Все это ставит реалистическую историческую живопись с ее «пластическими концепциями» на то место, которое отводилось ей некогда Академиею. Концептуальность исторических картин, соответствующая их художественно-образной природе, активизирует зрительское сознание, толкает его на поиски скрытого смысла картины. Аналитический потенциал исторической живописи в эту эпоху особенно высок и притом обеспечен не рациональным, а именно художественно-образным методом.
Живопись напоминает об исторических корнях русского народа и его менталитете – бунтарском и в высшей степени способном на сочувствие и сострадание, открытом слову. И снова задает вопросов больше, нежели дает ответов: ответ должен искать сам зритель. Центральное явление, ядро русской живописи 1880-х годов в целом и исторической в частности – творчество Василия Сурикова. Сибиряк, казачья косточка, потомок тех, кто открывал и отвоевывал Сибирь для государства Московского, он с детства впитывал историческую память предков, дышал и жил ею. Попав из Красноярска в Петербург с помощью и поддержкой сибирского мецената купца П. И. Кузнецова, в Академии художеств Суриков овладевает всеми премудростями академической системы.
Он учится, наращивая и усложняя задачи, главным образом – композиционные. Он еще застает среди профессоров Федора Антоновича Бруни. Рисунку учится у знаменитого Павла Петровича Чистякова, у кого брали уроки и уже вполне сложившиеся художники, и академическая молодежь, о ком ходили легенды. Но главным учителем Сурикова станет Александр Иванов, в чьем творчестве он почует родственную душу художника – человека, мыслящего с кистью в руке. По свидетельству современников, часами просиживал Суриков в зале Румянцевской библиотеки перед «Явлением Мессии». Он выполняет – всей жизнью своей и всем творчеством – заветы Иванова, продолжает его дело.
Как мастер исторической живописи Суриков громко заявляет о себе обществу картиной «Утро стрелецкой казни» (1881, ГТГ) – первой поистине «хоровой» реалистической исторической картиной. Отступая от буквы истории (казни стрельцов на самом деле происходили не на Красной площади), художник избирает для драматической своей сцены это место – сердце и символ допетровской Руси. Как у Шварца в «Вербном воскресенье», эта историческая декорация исполнена символическим смыслом. Но если в картине предшественника зрителю предстал назревающий раскол духовной и светской власти, теперь масштаб изменился – это конфликт власти и подвластного ей народа, его судьба в переломную эпоху.
Как Репин за два года до того, Суриков ставит вопрос: «Кто виноват?», не давая на него ответа. Он по сути подхватывает мысль, перед которой в страхе и недоумении остановился Перов в работе над картиной «Суд Пугачева»: мысль о противостоянии сил, на стороне и на знамени каждой из которых – своя правда. Он не выносит приговора ни одной из них – он показывает трагедию народа и драму власти. Стесненная в пространстве толпа изображена на фоне «обезглавленного» собора Василия Блаженного – символа допетровской Руси. За спиной царя и его сторонников – мощно вздымающиеся башни военной твердыни – Кремля. Это та же декорация, что в «Вербном воскресении» Шварца, но у Сурикова она обретает символическую многозначность.
В плотно спекшейся массе привезенных на казнь выделены шесть фигур, воплощающих различные последовательно сменяющие друг друга акты трагедии, состояния личности: связанный стрелец в синем кафтане на телеге, силящийся подняться; рыжебородый, вступивший в поединок взглядов с царем; мрачно потупившийся чернобородый; седой старик, перед внутренним взором которого словно проходит прошлое; кающийся – вставший на телеге в рост и просящий у народа прощения; бережно, под руки уводимый солдатами на казнь. Вздымающаяся волна народа разбивается у подножия власти – маленькой группы сторонников Петра, сосредоточенной справа.
В этой группе нет солдат – они вместе с народом как его часть, трагически обреченные на роль палачей. Вплавленные в густую толпу, они полны сострадания и сочувствия. Особенно выразительно лицо преображенца за спиной чернобородого – искаженное гримасой боли (и опять вспоминается «сочувствуя боль» в беглой заметке на листке альбома Александра Иванова). Немногочисленные сторонники молодого царя отнюдь не празднуют победы – так же, как и разгневанный правитель. В этом противостоянии нет правых и виноватых, у каждого правда своя и своя боль. Драма разворачивается как сплачивающее простых людей единство судьбы: бережным, почти братским движением поддерживают солдаты-преображенцы ослабевшего перед лицом смерти стрельца, которого они ведут на казнь.
Скорбны их лица — лица исполнителей воли государя. Одинок перед народом неистовый Петр, восседающий на коне. И не перед ним в последнем поклоне склоняются казнимые. Напряженная, как натянутая раняще тонкая струна, композиционная линия соединяет две группы: сошедшиеся в поединке взгляды рыжебородого стрельца и сумрачного, с замкнутым лицом молодого царя на коне. Непримиримые в жизни и смерти. Равно ожесточенные. Рыжебородый – единственный персонаж, вступивший с Петром в прямой контакт. Поединок взглядов напоминает о композиции картины Ге, но Суриков включает связанного бунтовщика в плотную массу толпы и собирает в его испепеляющем взоре всю силу народного гнева и боли.
На первый план художник выводит само страдание – безвинное и потому особенно горькое: старая мать, бессильно опустившаяся прямо в грязь, рыдающая стрельчиха и отчаянно плачущая маленькая девочка, которую художник написал с дочери. Завязанный под кругленьким подбородком красный платочек, покрывающий ее голову, – самое яркое, кричащее пятно в картине. Рядом – еще одна раздирающая душу сцена: истошно, не слыша тихого плача обхватившего ее ручонками белоголового сына, вопит женщина, мужа которой уже ведут на казнь.
В женских образах картины народная трагедия развернута в широчайшем эмоциональном диапазоне: от истошного воя молодой стрельчихи, оторванной от мужа, и отчаянного, взахлеб, плача маленькой девочки на переднем плане до немого безнадежного оцепенения старух, сидящих на земле в темном холодном месиве дорожной грязи. Не случайно следующий замысел Сурикова связан с темой судьбы женщины, ставшей жертвой политики. Картина «Царевна Ксения Годунова у портрета умершего жениха-королевича» (эскиз 1881 года в ГТГ) не была написана. И от образа жертвы исторических сил Суриков приходит к размышлениям о силе женского характера, им не подчиняющегося, способного на сопротивление.
Эскиз «Боярыни Морозовой» датирован тем же 1881 годом. Колорит картины Сурикова и зрители, и сам он признавали «черноватым», однако сумеречные краски не только правдиво передавали пригашенные цвета раннего рассвета и подчеркивали теплый свет свечей и его отсветы на смертных рубахах, но создавали у зрителя соответствующее настроение. Появление на девятой передвижной выставке картины «Утро стрелецкой казни» (1881, ГТГ) произвело фурор. Критики самых разных направлений отмечают мощь нового для многих живописца, называют его произведение первым номером и перлом выставки, отмечают драматизм, глубину и силу исторического чувства мастера, видят в картине символический образ петровской России, казнящей древнюю Русь.
Упреки в основном относятся к колориту и перспективе, выразительность и смысл которых «не доходит» до зрителей. Однако в главном и критика, и зрители сходятся: художником показана «сила человеческого духа, а не его немощь; тут действительно драма, а не театр; и Суриков выдержал эту ноту до самой потрясающей глубины» (Сторонний зритель (Н. А. Александров). Художественные заметки. В. И. Суриков // Художественный журнал. Т.1. 1881. №4. С.225), все в картине Сурикова «так живо, что кажется, точно она выхвачена из действительности» (Девятая передвижная выставка // Иллюстрированный мир. 1881. 14 марта. №11. С.190). .
Но снова – как это было при появлении картин Н. Н. Ге «Петр I и царевич Алексей» и «Царевна Софья» Репина, – дискуссия разворачивается вокруг героев, по поводу сюжета картины больше, нежели о ней самой. Век рационализма требует однозначности образа, определенности позиций. В критике активно звучат и обвинительные ноты. Монархически настроенные издания упрекают художника в тенденциозности образа Петра – «лютого тирана» с «жестоким, зверским выражением на лице» (Беспалова Н. И., Верещагина А. Г. Русская прогрессивная художественная критика второй половины XIX века: Очерки. М.: Изобразительное искусство, 1979. С.191). Но главное обвинение – то же, что некогда слышал Ге в адрес своей картины «Петр I и царевич Алексей»: «Одно из двух, г. Суриков сочувствует или Петру, или стрельцам. Это сочувствие той или другой стороне должен был он выразить на своей картине, и тогда картина его получила бы тот смысл, которого напрасно ищет в ней зритель теперь…Для художника нет выбора. Его историческое лицо должно быть или хорошо или дурно, право или неправо, велико или низменно» (Передвижная выставка картин // Московские ведомости. 18811. 26 апреля. №114).
К реальной сложности и многозначности художественного образа зрители и критика все еще не подготовлены. Суриков задает извечный русский вопрос: «Кто виноват?» – и не дает однозначного ответа, наталкивает на мучительные размышления – и словно бы скрывает свои позиции. Как истинный художник, он видит образ, а не просто перекладывает на полотно свои размышления на социально-историческую тему, и образ этот идет из глубины души, созревает естественно, как плод на ветке дерева, толчком к его появлению становится образная ассоциация: отсвет свечи на белой рубахе.
Этот образ – не обличение – «тенденция», даже не «выражение мысли», но необходимый и естественный импульс чувствам и мыслям зрителя. Непосредственно не связанный с русским революционным движением, чудом художественного прозрения Суриков создает картины, в которых отражаются центральные социальные проблемы эпохи: он сын этой эпохи, плоть от ее плоти, но истинный художник, а не публицист. Он так же внутренне свободен, как Иванов. Как его гениальный предшественник, Суриков умеет в конкретности явлений вскрыть действие общих исторических закономерностей, не утрачивая ни полнозвучности реального факта, ни сложности и психологизма характера.
Избирая эпизоды исторически значимые, ключевые, художник никогда не изображает явление «равным самому себе», и каждый элемент его образов – композиция и колорит, отдельная деталь или атрибут, – оказываются исполнены глубоким символическим смыслом. Так, «Утро стрелецкой казни» – это и «утро» славной эпохи преобразования России, омраченное трагедией народа, и «утро жизни» Петра, переживающего драму разобщения с подвластными ему, но не понимающими и не приемлющими его подданными. Свечи в руках смертников – и достоверная историческая деталь, и символ насильственно гасимого огня жизни. Избирая для своей первой исторической драмы те же «декорации», что некогда использовались Шварцем, Суриков развивает то, что лишь намечено в творчестве его предшественников.
Его художественные ассоциации более смелы и определенны: срезанные рамой главы собора Василия Блаженного за спиной казнимых стрельцов, мощные стены и башни Кремля, на фоне которых стоит небольшая группа Петра и его приверженцев, внятно говорят и о том, на чьей стороне сила, и о цене, которую платит народ, живущий в эпоху перемен и попавший под колесо истории. Замысел «Боярыни Морозовой» был осуществлен не сразу – отложен на будущее. Идея нравственного поражения Петра, его трагическое разобщение с народом в «Утре стрелецкой казни» – своего рода ключ к дальнейшим размышлениям художника о причинах краха многих начинаний царя-реформатора.
В картине «Меншиков в Березове» перед зрителями предстает бесславный закат жизни сподвижника Петра, после смерти царя, при Екатерине I, – неограниченного властелина России. Сосланный юным Петром II в глушь, в избе, срубленной собственными руками, он – словно крупная хищная птица в тесной клетке. На смену «пространству толпы» приходит «пространство личности», как в репинской «Софье», «загнанной в угол» исторической безысходности. Конкретность образов картины обогащала, насыщенная живым чувством, наталкивала на размышления о судьбе человека в ее взаимосвязи с эпохой. Снова преступая букву истории в угоду ее духу, Суриков наполняет каждую деталь образным смыслом: топорщатся еще не отросшие волосы Меншикова, напоминая о том, что совсем недавно эту голову украшал парик с пышными длинными локонами, по обычаю петровских времен брит подбородок – на самом деле в ссылке опальный вельможа отрастил бороду.
В убогом интерьере избы остатки прежней роскоши выглядят почти вызывающе, но красноречиво. Оставаясь одиноким «птенцом гнезда Петрова», Меншиков словно бы замер на краю своего разоренного гнезда. Особенно пронзителен образ Марии – бывшей царской невесты: смертельно больная, она замерла у ног отца, в тщеславии сломавшего ее жизнь. Если в «Стрельцах» зрителю представала историческая панорама, в которой глаз выхватывал отдельные наиболее яркие личности, то «Меншиков в Березове» – словно увеличенный фрагмент – одна из множества семейных групп.
Неважно, что это семья самого могущественного из соратников Петра – перед Фортуной все равны, и под колесом истории одинаково хрустят белые и черные кости. Каждый образ разработан портретно – известно, как тщательно работал Суриков с иконографическим материалом. Но портретное сходство героя с прототипом не обладает для художника самоценностью: каждый персонаж предстает перед нами как воплощение своей судьбы, в особом состоянии, на перекрестье прошлого и будущего.
Осевшая у ног отца фигурка «царской невесты», возвышающийся за ее спиной отец – люди прошлого, они и своей застылой бездейственностью, и композиционно, и колористически словно отделены от младших Меншиковых, жизнь которых не лишена будущего. Деформируя классическую прямую перспективу, Суриков останавливается на той незримой грани, когда напряженность пространственного решения обретает предельную выразительность и силу воздействия на зрителя, не утрачивая визуальной убедительности.
Изощренный профессионально поставленный глаз улавливает «ошибки» – Крамской сразу отмечает нарушение масштаба: если Меншиков встанет во весь рост, он пробьет головой крышу избы. Однако упреки такого рода были сродни тем, которые бросались Иванову. Суриков делал следующие шаги по пути преобразования визуальной реальности во имя выявления сущности – теперь социальной. Но если Иванов шел наперекор обстоятельствам, продирался сквозь устоявшиеся стереотипы, то обстоятельства подталкивали Сурикова, служили питательной средой его яркому воображению, природному историческому чувству и, благоприятные или драматические, стимулировали творческий процесс.
Это снова картина-вопрос: «Почему на многие десятилетия приостановилось дело Петра?» Не слабость правителя или окружавших его единомышленников тому причиной – Меншиков и в ссылке сохранил силу духа. Какова же роль личности в истории – и границы ее возможностей? Чем управляются судьбы народов? Зрители должны были вспомнить страницы истории – и задуматься над ними. Деятели и жертвы исторического процесса взывали к ним с полотна. Возвращаясь к замыслу «Боярыни Морозовой», Суриков избирает героиней женщину страстную, неукротимую, фанатичную и показывает ее моральную победу над «Тишайшим» царем.
В чем сила боярыни, идущей наперекор историческому процессу? Именно этот вопрос снова вставал перед зрителем. И на сей раз художник дает ответ: человек-деятель, правый или виноватый, обретает силы для моральной победы над судьбой в поддержке народа. Как прежде Иванов, Суриков показывает – но теперь на материале русской истории – силу слова, могущество прямого и страстного обращения к людям. Его и привлекает прежде всего ответная реакция сопереживания, переплетение людских характеров, объединяемых сочувствием герою и идее. Если в «Утре стрелецкой казни» – это вопль боли, а конфликт воплощен в немом поединке взглядов рыжебородого стрельца и царя Петра, в «Меншикове» слово и безмолвие – знаки будущего и прошлого, жизни и смерти, в «Боярыне Морозовой» слово – сила, переворачивающая душу человека.
Помещая в центре холста темную фигуру Морозовой, ее иссушенное внутренним огнем бледное лицо и взметнувшуюся вверх руку с двоеперстием – символом старой веры, художник использует «рупорообразную» композицию, «отсекая» от толпы – слева и за спиной скованной боярыни, по ходу везущих ее саней – тех, кто еще не услышал ее слова, не подвержен его силе, не увидел исступленного лица и потому либо равнодушен, либо настроен откровенно враждебно к ней. Композиционно – в центре – сопоставлены «лик страдания» и «личина глумления» (Морозова и возница). От этого центра расходятся особые «пространственно-эмоциональные зоны».
В них разворачиваются контрастные реакции окружающих: гогочущий возница, смеющийся мальчонка, еще не увидевший боярыню, хихикающие купец и священник отодвинуты на задний план, они все – за спиной героини; правая – рупорообразная часть полотна включает тех, кто уже попал в зону воздействия ее страстного слова. Справа, за санями, бороздящими истоптанный снег, в пространстве, развернутом как сфера воздействия слова, обращенного Морозовой к людям, просветленные состраданием лица тех, кто испытал обаяние ее призыва, сплоченных чувством сопричастности происходящему.
Как у Иванова, композиция картины Сурикова есть носительница основного смысла образа. Как у Иванова, толпа выступает в такой конкретности отдельных персонажей, в таком разнообразии характеров и их проявлений, социальных типов и человеческих темпераментов, что по произведению Сурикова можно составить достоверное представление о жизни различных социальных слоев Руси XVII века, о странниках и юродивых, о положении женщины, политических контактах и торговых связях страны. И, конечно, о расколе, связанном с антифеодальными и оппозиционными движениями на Руси. В отличие от Иванова, это – характеры социально-исторически конкретные, это русский человек на переломе истории.
Что было главным мотивом, главной идеей картины? Однозначный ответ дать практически невозможно. Акцентирован и развит может быть не один, а множество мотивов. Но, анализируя композицию картины, приходишь к убеждению, что главное, о чем хотел сказать художник, – это сила народа, его способность, всей душой откликнувшись на страстные призывы гонимого носителя идеи, сплотиться в монолитную силу, готовую воспринять и взрастить посеянное семя.
Пафос картины не столько в мощи личности мятежной боярыни, сколько в проникновении в русский народный характер с его всепобеждающей способностью к состраданию. И еще – о его почти детской доверчивости, внушаемости, подверженности воздействию личности, как теперь говорят, харизматической, готовности пойти за ней на страдания и жертвы. Но эта сторона смысла станет проступать в образе, созданном Суриковым, лишь после горьких уроков, которые получит русский народ в ХХ веке.
Что есть слово Морозовой? Выражение фанатичной преданности идее? Догадывается ли сам Суриков о том, что идет по стопам не только Александра Иванова, но и Федора Бруни и Василия Перова? Размышляет ли о том, на что способны фанатики идеи, получив в руки реальную власть? Так изобразив воздействие магии слова на народ, не создал ли художник предостережение – на пороге века, когда манипулирование толпой примет глобальные масштабы? Еще одно сопоставление: в правом углу полотна – икона «Умиление», ликом обращенная к Морозовой. Что это? Напоминание о том, что «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать»?.. Или, напротив, утешение, ей приуготовленное?
Но не к этому кроткому лику устремлены горящие фанатизмом глаза мятежной боярыни. Ее образ слишком сложен для того, чтобы признать его безусловно положительным. Кроткая боярышня в желтом платке вызывает гораздо большую симпатию зрителя. Но сила духа не может не вызывать восхищения. Необыкновенно широк спектр женских характеров в картине – от кроткой нищенки, благословляющей боярыню, до отвесившей ей глубокий поклон (желтый платок – тому свидетельство) боярышни с бледным лицом и опущенными глазами, искаженного жалостью личика ее сестрицы и пригорюнившейся мамушки. Среди женщин, в отличие от мужчин, нет ни одной усмехающейся – все сострадают боярыне.
И снова, как до того у Брюллова, Иванова, Крамского, в картине-эпопее появляется образ уловимо автопортретный: черты лица странника с посохом и плетеной корзиной, пристально всматривающегося в исступленные глаза Морозовой, чуть напоминают суриковские автопортреты. Голова его помещена прямо под иконой. Странник немо взирает на происходящее: ему надлежит нести по Руси весть о том, что он видел. И что он скажет людям в градах и весях, которые предстоит пройти? Так, развивая принципы Иванова, Суриков прилагает их к конкретному материалу русской истории, осмысленной с позиций современности. Ясная, почти научная четкость художественного отображения психологических и социально-исторических проблем открывается лишь при глубоком проникновении в ткань его животрепещущих, полнокровных образов.
Герои Сурикова не просто воплощают те или иные характерологические качества. У каждого из них – своя судьба, свое место в истории, свой путь. В эпоху безвременья, восстанавливая утраченную связь времен, Суриков помогает соотечественникам, оглянувшись на прошлое, внутренне подготовиться к грядущим переменам. В его картинах мгновение предстает как сгусток времени, в котором воедино сплетаются судьбы каждого человека и всего народа.
Пространство, как правило, несколько уплощенное, «спрессованное» (за что он услышал немало упреков), – это пространство не этноса, разбросанного по бескрайним просторам России, но историческая сцена, на которой смоделирована та или иная судьбоносная ситуация. Его персонажи исторически достоверны и одновременно несут в себе конкретные общенациональные качества. Характер каждого раскрывается в той полноте и обнаженности, которая сопутствует драматическим коллизиям, когда с человека спадает все наносное, поверхностное, случайное, и он предстает глазам окружающих в наготе своей натуры. Не таким, каким должен (как у классицистов) или может быть (как у романтиков), а таким, каков он есть на самом деле.
В этом бесстрашном обнажении сути реальности нерв того метода, который использует и обогащает Суриков. Он работает не по «методе сличения и сравнения», разработанной Ивановым. В самой гуще жизни – на улицах Москвы, на паперти храма – Суриков находит социальные типы, в которых воплотились нужные ему качества личности – и почти без изменений переносит их на полотно. Так, как это некогда делал Павел Федотов. Интегрируя и совершенствуя открытия «отцов русского реализма», Суриков таким образом протягивает связь от настоящего к прошлому, чтобы затем по ней, как по путеводной нити Ариадны, привести зрителя снова в настоящее, обогатив его новым знанием, он воспитывает в зрителе ясность видения, активизирует его ассоциативное мышление.
Интересы и творчество Сурикова конкретнее и уже, нежели у Иванова. Если великий отшельник XIX века пытался возвратить человека на путь духовно-нравственного совершенства, звал к небесам жертвенной любви, Суриков 1880-х годов по сути приходит к разочарованию – ни в одной из коллизий русской истории он, как и Ге, не находит идеала. Разве что – долготерпение русского народа и его способность к состраданию. Удивительное дело – каждая эпоха окрашивает наше восприятие настоящего и прошлого, реальной жизни и искусства своим особым цветом.
Новый опыт добавляет к нему множество оттенков, и начинаешь понимать, как – особенно в молодости подвержен магии словесных формул и внушению визуальных образов. Но и их мы редко воспринимаем непосредственно. Сколько раз и в скольких исследованиях мы повторяли, что главная тема и главное открытие русской живописи в 1880-е годы – это народ как основная движущая сила истории. Что главная проблема, которая лежит в основе исканий Сурикова, – это попытка понять, кем же или чем эта сила направляется. Но разве народ решает, в каком направлении пойдет история России в эпоху Петра? Что стало со стрельцами, пытавшимися остановить будущее? Сила они или жертва истории? И разве дано личности, не обладающей реальной властью, повернуть историю вспять? Кто такая боярыня Морозова, как не жертва своих заблуждений, героическая – но жертва, вызывающая сочувствие людей, бессильных помочь ей – разве что благословить на духовный подвиг.
А вершители судеб страны – разве они не становятся жертвами власти, как Меншиков, попавший в Березов по повелению мальчишки-царя? Справедливость возмездия, словно бумеранг, настигает «полудержавного властелина», но это обстоятельство отнюдь не снимает тезиса о том, что в России судьбу народа и личности решает самодержавная власть. Разумеется, смысл картин Сурикова 1880-х годов отнюдь не исчерпывается этой пунктирной линией, глубокий и многослойный художественный образ несводим к одной идее, и все же связующая их логическая нить просматривается именно так сквозь толщу времени. В 1890-е годы Суриков сосредоточится на поиске деятеля, который был способен повести за собой людей.
Но это будет уже иная эпоха. Впервые после «великой триады» первой половины XIX века в русской исторической живописи появляется художник-пророк. Слышит ли кто его пророчества, понимает ли? Оставим в стороне критиков официальных, которые уже в «Стрельцах» видели антитезу идее триединства САМОДЕРЖАВИЯ – ПРАВОСЛАВИЯ – НАРОДНОСТИ. По трагическому совпадению передвижная выставка открылась в Петербурге 1 марта 1881 года, и зрители в залах слышали те два взрыва бомб, которыми был убит Александр II. Бездна, разверзающаяся у ног «Медного всадника» (едва ли случайно Суриков изображает в картине Петра на коне – эта ассоциация была естественной для автора картины «Вид памятника Петру I на Сенатской площади»!), – эта пропасть, отделяющая его и от провинившихся стрельцов, и от их невинных жен, и от превращенных им в палачей суровых воинов, свидетельствовала об идеализме знаменитой формулы.

Но собратья по искусству, демократическая пресса как воспринимали они триптих Сурикова? Иван Николаевич Крамской, восторженно встретив репинскую «Царевну Софью» и ради нее поступившись любимейшей теорией («…историческую картину следует писать только тогда, когда она дает канву, так сказать, для узоров по поводу современности, когда исторической картиной, можно сказать, затрагивается животрепещущий интерес нашего времени…» Письма. Т.2. С.167), в недоумении останавливается перед «Меншиковым в Березове»: «Картина ему непонятна – или она гениальна, или он с ней еще недостаточно освоился» (Нестеров М. В. Давние дни. М. б., 1959. С.86)., «Узора по поводу современности» – прямой аналогии, очевидного дидактизма в этих картинах действительно нет, а стимулирующая историческую саморефлексию глубина пока не очень понятна. Законодатель и идеолог критического реализма В. В. Стасов в «Стрельцах» поначалу вообще увидел только недостатки: «Театральность Петра I верхом, искусственность петровских солдат, бояр, иностранцев и стрелецких жен и всего более – самих стрельцов (Стасов В. В. Избранные соч.: В 3 т. Т.2. С.457). На появление «Боярыни Морозовой» Стасов откликается в статье «Выставка передвижников» комплиментарно: «Сила правды, сила историчности, которыми дышит новая картина Сурикова, – поразительны» (Там же. Т.3. С.59). Но когда перечитываешь страницы, посвященные интерпретации полотна, не можешь не поражаться слепоте критика, о которой столько говорили художники рубежа веков. Для него эта картина не что иное как воспроизведение одной из страниц истории Руси XVII века – и не более: «Нас не могут более волновать те интересы, которые двести лет тому назад волновали эту бедную фанатичку, для нас существуют нынче уже совершенно иные вопросы, более широкие и глубокие <…> Мы пожимаем плечами на странные заблуждения, на напрасные, бесцельные мученичества <…> Нам за них только жалко, печально и больно» (Там же. С. 61). Репин в письме к Стасову, упрекая его в несправедливости, замечает: «…про Сурикова Вы в статье Вашей написали и много, и неудачно <…> Суриков необыкновенно художествен» (И. Е. Репин и В. В. Стасов. Переписка. М.;Л.: Искусство, 1949. Т.2. С.101). А самому Сурикову по горячим следам, сразу по прибытии картины из Москвы в Петербург на передвижную пишет: «…впечатление могучее». И это было главное. Развернувшаяся в печати полемика была спором двух враждебных идеологий – и с идеологических позиций она проанализирована и в монографии М. С. Кеменова, и в главе Н. И. Беспаловой в книге о русской прогрессивной художественной критике (Беспалова Н. И., Верещагина А. Г. Русская прогрессивная художественная критика второй половины XIX века: Очерки. М.: Изобразительное искусство, 1979. С.193–200). Картина была для критики только аргументом в споре и противостоянии двух враждебных социальных сил. Главный предмет спора – «правда» ли то, что Суриков говорит о прошлом, правдиво ли воспроизвел «дух времени». И сто лет спустя в картине видятся «мысли об окружающей действительности, о социальных противоречиях» (Там же. С.196). Хотя тот спор о вере, который увидел Суриков, у него в картине, по крайней мере, социальной окраски не имеет. Кроме нищих, в ней нет угнетенного народа. Зато в ней есть многое, что может открыть для себя – и прежде всего для себя – наш сегодняшний и завтрашний зритель. И открывал зритель-современник, не специалист, не критик – «человек толпы». Способность художника «угадать» прошлое, передать «самый дух» эпохи обращена была к сердцу зрителя, а не только к его разуму. Трагедия и героический пафос давно отшумевших событий, драма сердца тех, кто был их свидетелями и участниками, затрагивала чувства зрителя XIX века, порождала ассоциации с его собственной судьбой. Потому-то сквозь облик фанатичной сторонницы протопопа Аввакума, сожженного по приказу «Тишайшего» – царя Алексея Михайловича, современники прозревали знакомые черты тех, кто столь же жертвенно и фанатично шел на борьбу и на смерть за освобождение России от самодержавия. За счастливое будущее народа – так, как они понимали это счастливое будущее. Революционерка-народоволка Вера Фигнер, в архангельской ссылке, увидев гравюру с картины Сурикова, вспомнила казнь «первомартовцев» – цареубийц: «В розвальнях спиной к лошадям, в ручных кандалах Морозову увозят в ссылку, в тюрьму, где она умрет. На исхудалом, красивом, но жестком лице – решимость идти до конца… Гравюра говорит живыми чертами, говорит о борьбе за убеждения, гонении и гибели стойких, верных себе. Она воскрешает страницу жизни… 3 апреля 1881 года… Колесница цареубийц… Софья Перовская…» (Фигнер Вера. Запечатленный труд. Воспоминания: В 2 т. М.: Мысль, 1964. . Т. I . С.272). Была воспринята и та идея, которую не уловили зрители «Медного змия» Бруни – предостережение против фанатизма. Суриков был услышан. Один из самых чутких и тонких зрителей эпохи – писатель и художественный критик В. М. Гаршин в заключение статьи, размышляя с позиций «человека толпы» о картине Сурикова, пишет: «Но если разобрать хорошенько, кто был настоящим, внутренним насильником, то окажется, пожалуй, что не угнетающие. О, дайте этой Морозовой, дайте вдохновляющему ее, отсутствующему здесь Аввакуму власть, — повсюду зажглись бы костры, воздвиглись бы виселицы и плахи, рекой полилась бы кровь, и бездушные призраки приняли бы многую жертву! <…> Да, велика сила слабости! Какая бы дикая, чуждая человечности идея ни владела душой человека, какие бы мрачные призраки ни руководили им, но если он угнетен, если он в цепях, если его влекут на пытку, в заточение, в земляную тюрьму, на казнь, – толпа всегда будет останавливаться перед ним и прислушиваться к его речам; дети получат, может быть, первый толчок к самостоятельной мысли, и через много лет художники создадут дивные изображения его позора и несчастия» (Гаршин В. М. Заметки о художественных выставках: Сочинения. М.; Л.: ГИХЛ, 1960. С.353). Не случайно Гаршин открыто в начале статьи заявляет о себе как о «человеке толпы». Он глубоко убежден, что художника должно интересовать «то впечатление, на которое он рассчитывал всею своею работою, не думая об контурах и колоритах… ибо художник менее всего пишет для художников и присяжных критиков, а только для себя <…> и для толпы» (С.344). «Часто один мощный художественный образ, – пишет Гаршин, – влагает в нашу душу более, чем добыто многими годами жизни; мы сознаем, что лучшая и драгоценнейшая часть нашего я принадлежит не нам, а тому духовному молоку, к которому приближает нас мощная рука творчества» (С.344). Сама социальная напряженность эпохи реакции – а Александр III, что бы мы ни говорили сегодня, жестко «завернул гайки» и решительно расправился с поднявшим голову революционным движением в России, да и с самими реформами 1860-х годов – воспитывала у читателей способность «читать между строк», у зрителей – воспринимать скрытый смысл живописного образа. Не случайно и знаменитая картина Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» (1885, ГТГ) стала одним из крупнейших событий 1880-х годов, хотя историю сыноубийства в царствующем доме не только Шварц, но и другие русские художники показывали с начала шестидесятых. И, собственно, в идейном смысле Репин не открывает ничего нового. Но в душу исторического героя заглядывает еще более глубоко и бесстрашно, нежели Шварц. Историческая живопись 1880-х годов отличается обостренным интересом к глубоким тайнам человеческой психики. Именно это качество потрясало зрителей в картине И. Е. Репина. Современники с их обостренным ассоциативным восприятием искусства, воспитанным эпохой, не могли не заметить в названии картины подчеркнутого совпадения: убийство царевича Ивана происходит ровно за триста лет до событий 1881 года. Скрытый смысл усиливается и образом царевича – в реальной истории фигуры весьма неясной. По некоторым сведениям, своим нравом Иван V – сын мало уступал Ивану IV – отцу. Репин пишет умирающего с обаятельнейшей личности эпохи – писателя В. М. Гаршина, одной из жертв реакции 1880-х годов. Потрясенный казнью революционера И. О. Молодецкого, после неудачной попытки вступиться за него, Гаршин попадает в клинику душевнобольных, а в 1888 году кончает жизнь самоубийством, бросившись в пролет лестницы. Реалист 1880-х точно выбирает момент – фазу события. Изобрази он само свершение нечаянного убийства – и могла получиться кровавая мелодрама. «Шлейф» происшедшего уже дал Шварц. Репин отображает страшный миг прозрения сыноубийцы, когда он вдруг понимает, что время невозможно повернуть вспять – так же, как невозможно поверить в непоправимость происшедшего. Пространство картины – интерьер царских покоев со следами произошедшей здесь яростной схватки отца и сына – темно и поразительно, почти несоразмерно велико. Страшно одиночество скорчившегося плешивого, обрызганного кровью старика, пытающегося приподнять тяжелеющее тело сына. Страшен жест прощения, которым сын, приподнимаясь на подламывающейся руке, другой касается плеча отца. Страшен контраст между необычайно красивым (и великолепно фактурно написанным) сочетанием нежно-розового кафтана, сафьяновых шитых золотом зеленых сапожек царевича и иллюзорно изображенной лужей крови на ковре. Не случайно картина некогда подверглась нападению душевнобольного человека – Репин до предела напрягает возможности визуального образа. Многозначность и многоплановость, психологическая глубина произведения дала возможность отвести грозу высочайшего гнева. Узнав о том, что император, еще не видев произведения, запретил показ картины Репина в провинции, И. Н. Крамской, в это время пользующийся авторитетом не только в художественной среде, но и у властей, обращается с письмом к графу И. И. Воронцову-Дашкову, организатору и главе националистической «Священной дружины», человеку весьма влиятельному при дворе: «…Буду говорить коротко и резко. Царь убил своего сына. Факт исторический. Можно ли показывать такую картину народу? И да и нет. Да, когда в картине все сказано, что психически за поступком следует. Нет, когда картина односторонняя. Картина Репина не односторонняя. Подробности события может прочесть всякий грамотный в русской истории. Но это вовсе не то, что картина. Картину убийства, даже будь она изображена верно исторически, нельзя показывать, если в ней нет чего-то, чего в истории могло и не быть, а именно: вывода, цели. Говорят: «Ужасно!». Убийство всегда ужасно. Но некоторая часть преступлений совершается и потому еще, что убийцы в спокойном и нормальном течении своей жизни имели мало случаев получить ясное представление о факте. Я чувствую, что это объяснение может показаться шатким, лекарство несколько фантастическим. Но, ваше сиятельство, я слишком глубоко люблю искусство, слишком дорожу его высоким воспитательным значением, чтобы легкомысленно относиться с одобрением к картинам направо и налево, кроме того, я слишком различен по своим художественным инстинктам от Репина, и, несмотря на то, я утверждаю, что его картина в конце концов имеет честное воспитательное значение. В чем очевидная тенденция картины? Ужас последнего градуса отца и параллельно – кроткое любовное чувство сына. Иначе картину никто не прочел, иначе и прочесть ее нельзя. Что же тут дурного? … Говорят, погрешность эстетики. Извините, но это последнее менее уважительно, нежели то решение, которое дает Репин своей картиной: не знаешь, кого больше жаль в картине. По решению Репина, этот Иван Грозный, это психологическое существо, становится мне близким, дорогим. Я все понял, все простил. Для меня очевидно, что после этой картины число преступлений должно уменьшиться, а не увеличиться, потому что, кто раз видел в такой высокой шекспировской правде кровавое событие, тот застрахован от пробуждения в человеке зверя…» (Товарищество передвижных художественных выставок. Письма. Документы. Т.1. С.298). Не станем упрекать Крамского в прекраснодушии и переоценке действенности искусства. Цель у него в данном случае была конкретная, а некоторая перестановка акцентов в интерпретации – вполне допустимая и оправданная. Вероятно, Крамской, обратившись к человеку приближенному и зная, что его письмо дойдет до высочайшего адресата, слегка лукавил, утверждая, что картину Репина иначе как психологическую драму никто не прочел и ее нельзя прочесть иначе. Современниками Репина – да и не только ими – полотно прочитывалось как обличение царствующего дома, как напоминание о родовом качестве власти, во все времена – сыноубийственной, нередко казнящей лучших из лучших. Но Крамской глубоко прав, когда говорит о том, что Репин представил России ужас кровавого убийства во всей его обнаженности – вне зависимости от того, сыноубийство или цареубийство здесь представлено. Грозный – это и отец, теряющий сына, и царь, своими руками убивший будущее своей династии, и цареубийца – ибо пролил царственную кровь. В эпоху темную и кровавую, когда людей казнили без суда и следствия, Крамской прямо пишет: «Убийство всегда ужасно». В этом «всегда» приговор «всем» убийцам, как у Верещагина в «Апофеозе смерти» – всем завоевателям. В этом «Я все понял и все простил» – обращение к первоисточнику высшей христианской истины. Как последователь Александра Иванова и «шестидесятник» Крамской немножко идеалист в своем представлении о народе и истории, в своей безграничной вере в воспитательную силу искусства, способного перевернуть или, по крайней мере, глубоко затронуть человеческую душу. В чем различие «художественных инстинктов» Крамского и Репина? Крамской не случайно упоминает «погрешности эстетики». На образ Ивана Грозного обрушилась не только бульварная пресса. Он действительно в чем-то антиэстетичен. Традициям русской живописи претила лужа крови. Не надо даже вспоминать Брюллова или Бруни – работая над «Утром стрелецкой казни», Суриков сознательно останавливается на последней минуте ожидания страшного начала трагического действа. Картина Репина была на грани натурализма: на восприятие публики художник воздействовал почти иллюзорным изображением кровавого факта «в наготе страшной истины». Это была реконструкция на уровне того самого «окна в прошлое», о котором так много говорилось. Даже Василий Верещагин, не страшившийся показать кровь и грязь войны, в те же годы смотрит на «Казнь заговорщиков в России» (1885, бывший Музей революции в Ленинграде) издали и, как Суриков, останавливается в последний миг перед ужасающей казнью индусов, которых привязывали к пушкам и разносили на куски их тела («Подавление индийского восстания англичанами», около 1884, местонахождение неизвестно). Но обнаженность драмы вызвала небывалый ажиотаж. «…вчера, в воскресенье, такой был наплыв, что трудно описать эту давку, половина проходила без билетов; две кассирши едва могли продать 3778 билетов; затем их прижали в угол, сломали ножки у стола, а в залах опрокинули барьер около «Иоанна Грозного»; как не повалили всех картин – надо удивляться. Я такой толпы никогда не видывал и не воображал ничего подобного», – пишет П. А. Ивачев П. М. Третьякову 18 февраля 1885 года из Петербурга в Москву (Товарищество передвижных художественных выставок. 1869–1899. Письма, документы. М.: Искусство, 1987. С. 298). Чего было больше в этом натиске толпы? Любопытства? Желания пощекотать нервы? Сочувствия антиправительственным идеям? Люди толпы, как правило, статей в газетах не пишут. А художники-демократы именно человеку толпы и адресовали свои произведения, надеясь, что когда-нибудь их увидит и «народ» – в том смысле слова, какой оно имело в XIX веке – и устраивали дни бесплатного посещения своих выставок, высматривая на них простую публику. Как некогда в случае с «Иосифом» Александра Иванова, власти почитают за лучшее «не понять» намека, однако после выставки в Петербурге все же запрещают показывать и воспроизводить картину «для публики». Полотно Репина продолжало ту линию «дегероизации» официально признанных героев русской истории, начало которой было положено в 1860-е годы. Но оно было против «всякого убийства», и именно этот протест характерен для русской реалистической исторической живописи 1880-х годов, для живописи, ставшей ярчайшим симптомом духовного состояния русского общества эпохи реакции. Мотив смерти, притом смерти насильственной, вообще характерный для русской исторической живописи 1880-х годов и окрашивающий ее в достаточно мрачные тона, может быть, в наиболее оптимистическом варианте звучит в картине Ильи Репина «Николай Мирликийский избавляет от смертной казни трех невинно осужденных» (1888, ГРМ). Если вспомнить, что знаменитый «Отказ от исповеди» (ГТГ) создан в 1885 году, станет ясно, что тема казни, так потрясшая русское общество в 1881 году, не оставляет художника вплоть до конца десятилетия. Он должен «изжить» ее как художник, перенеся на полотно. Как человек в целом жизнерадостный и оптимистичный, он не может остановиться на утверждении безотрадной неотвратимости – и ищет такой сюжет, который мог бы подарить человеку надежду. Николай Мирликийский – родной для русского народа образ. Никольские храмы были в каждом русском городе, и не по одному. Часовни во имя Николы Угодника ставились по сухопутным и речным путям-дорогам Руси издревле. Его чудеса были известны каждому православному человеку, а образ стоял в каждом русском доме. Картина Репина была не просто иллюстрацией к житийному эпизоду. Как это характерно для евангельского реалистического жанра, особенно 80–90-х годов, полотно создавало образ противостояния добра и зла в открытом бою, когда сила Духа побеждает грубую силу и спасает невинного от, казалось бы, неминуемой злой смерти. В картине Репина образы однозначны. Осужденные явно ни в чем не повинны: это дряхлый старик, хилый экзальтированный юноша, не способный ни на какое злое дело, и зрелый муж в тяжелых цепях, приготовившийся принять смерть. Палач – зверовидное воплощение грубой силы с удавкой у пояса и тяжелым мечом в руке. Персонаж за плечом Святого Николая злобно коварен. Наконец, образ самого Мирликийского Чудотворца основан на знакомом и устоявшемся иконографическом типе старца с белоснежными сединами в святительском омофоре. Есть тонкая внутренняя связь между этими двумя картинами Репина. «Николай Мирликийский» – это своего рода антитеза «Ивану Грозному», в картине звучит напоминание о необходимости остановить смерть, призыв к милосердию, которое одно способно противостоять злу. Но само милосердие – это редчайшее чудо в мрачной человеческой истории. В целом русская реалистическая историческая живопись 1880-х годов глубоко трагична. В истории художники раскрывают самые драматические страницы. Но не пафос обличения, когда возникает вроде бы полная ясность и однозначность оценок, – горечь глубоких раздумий над судьбами страны, ее народа, ее правителей, над судьбой личности – и «исторической» и «не исторической» – наполняет полотна русских мастеров. В 1880-е годы Верещагин создает свою «Трилогию казней» и евангельскую серию, вызвавшую столь резкое неприятие клерикалов, что фанатик-монах на Всемирной выставке в Вене в 1885 году облил серной кислотой картины из этой серии. Пережив глубокий стресс после той реакции, какой встретила Россия, и особенно власти, его Туркестанскую серию, Верещагин уезжает в путешествие по Индии. В далекой экзотической стране, бывшей в те дни колонией Великобритании и безуспешно боровшейся за свое освобождение, он создает ряд замечательных пейзажных и портретных работ. И, конечно, находит сюжет, который «проберет не одну только английскую шкуру» (Лебедев А. К. Василий Васильевич Верщагин. М.: Искусство, 1972. С.75). Картина казни сикхов вошла в созданную в 1880-е годы «Трилогию казней». Эта картина не была исторической, хотя создавалась, как историческая реконструкция, и была тем отправным пунктом, который вел в прошлое. Верещагина не могла не поразить изощренная жестокость англичан: зная, что условием возрождения к иной жизни по религиозным представлениям индусов является целостность тела, предаваемого огню, они привязывали сикхов к стволам пушек, так что снаряды разносили их на куски, лишая надежды на возрождение. Поначалу художник собирался изобразить казнь сипаев – индусов, служивших в английской армии, но затем изменил свое намерение, расширив таким образом рамки эпизода. Его герои – крестьяне-сикхи, выступления которых были постоянными, мирные труженики, взявшие в руки оружие ради освобождения из-под власти колонизаторов. В центре полотна – старик-индус с внешностью древнего пророка, в белых одеждах, в белой чалме, с белоснежной длинной бородой. Заломленные руки, мучительно изогнувшееся тело, в муке запрокинутая к небу голова с широко раскрытым ртом. За ним еще три привязанных к пушкам живых тела. А все остальное – бездушная машина подавления: жесткие силуэты пушек на высоких колесах; такие же механически четкие и жесткие силуэты фигур англичан в белых тропических шлемах. Верещагин не показывает их лиц – только неподвижные одинаковые, как оловянные солдатики, фигуры в стойке «смирно». В Англии Верещагина обвинили в клевете, отрицая вообще факт такой казни. Но сам художник рассказывал, что в Лондоне на выставке к нему подошел генерал – «изобретатель» этой казни, и подтвердил, что его «изобретение» было неоднократно использовано другими военачальниками. Вторая картина называется «Казнь заговорщиков в России» (авторское название – «Повешение в России» (1884–1885, Музей политической истории, С.-Петербург). Уже в названии звучит обобщение, хотя зрители прекрасно понимали, что речь идет о недавно свершившейся казни народовольцев – убийц Александра II. Эта казнь состоялась на Семеновском плацу 3 апреля 1881 года. Верещагин в картине оказывается от конкретизации места: лишь знающий Петербург зритель может, различив в снежном мареве дымящие трубы, понять, что фоном трагической сцены был промышленный район столицы за Обводным каналом. И время года условно, оно скорее всего должно служить знаком «снежной северной страны» – контрастным знойной Индии. В картине драматическое действие происходит в бесконечном пространстве заметаемой снегами России. Работая дома в 1883 году над этюдами, художник специально с нетерпением ждет снегопада, когда «в воздухе крупные снежинки делятся тенью, а не светом» (Письмо к жене, 31 декабря 1884 года. Цит. по: Лебедев А. К. Василий Васильевич Верещагин. Жизнь и творчество. 2-е изд. М.: Искусство, 1972. С.214). Единственная деталь, конкретизирующая факт, – число казнимых. Виселица окружена подковообразно расставленной цепью жандармов. И молчаливой безликой толпой – мы видим людей только со спины. Замерших в стуже, застывших от ужаса свершаемого. Точно так, как в предшествующей картине, в «Распятии»(1887, Бруклинский музей) казнимые на трех крестах занимают небольшое место в пространстве холста, но композиционное построение и высвеченность белеющих на фоне темного неба фигур в правой части полотна притягивают к ним взгляд. Окруженная ощетинившими копьями стражников толпа производит впечатление беспокойно, но сдержанно шевелящейся массы. Значительную часть полотна занимает мощная стена с башнями, незыблемая твердыня, которой противостоят три слабые распятые фигуры. Безнадежностью веет от картины. Впечатление это тем сильнее, что, срезав фигуры первого плана нижним краем рамы, художник «втискивает» зрителя в толпу. Однако толпа представлена гораздо более конкретно, нежели в «Повешении». «Тут сельские жители, или номады, которые, возвращаясь с рынка, остановились на мгновение, чтобы посмотреть на событие дня… В толпе можно заметить несколько еврейских купцов … и фарисеев с изречениями закона, написанными на покровах их голов. Один из фарисеев спорит о чем-то с соседом своим относительно женщины, которая горько плачет в углу картины, по всей вероятности, матери одного из распятых. Лица ее не видно, но горе ее должно быть велико; по-видимому, ни одной из окружающих ее женщин не удается утешить ее… Возле этой матери с истерзанным сердцем стоит прекрасная молодая женщина, погруженная в глубокое отчаяние при виде этого казненного человека; слезы бегут по ее щекам, но она не сознает этого – так сильно поглотило ее страшное, невыразимое горе. Как только удалятся власти и разойдется толпа, матери и окружающим ее людям возможно будет приблизиться к крестам, тогда они скажут свое последнее «прости», – поясняет художник. (Там же. С. 216). В описании проступают прототипы евангельских героев, хотя художник ничем не выделяет их: композиционно они вплавлены в людскую массу. Соединяя картины в единую серию, Верещагин раздвигает границы пространства (от застывающего в снежном мареве севера до пылающего зноем юга) – и времени (от евангельских времен до не остывшей современности), вынося очередной приговор жестокости карательной машины. Верещагин идет своим путем. Он самодостаточен и не вступает в Товарищество. Отказывается и от академических званий. Но его творчество идейно близко передвижникам. Был ли Верещагин «социальным художником», как передвижники? Конечно, у него есть немало картин, обличающих власти, особенно в «Балканской серии». Но он работает на ином, наднациональном, общечеловеческом уровне обобщения, ощущает себя человеком мира, занятым проблемами всемирными. Сам Верещагин считает себя реалистом. На первой странице книги, изданной в 1898 году, «Листки из записной книжки художника В. В. Верещагина» (М.: И. Н. Кушнарев и К., 1898) он пишет: «…реализм картины, статуи, повести, музыкальной пьесы составляет не то, что в них реально изображено, а то, что просто, ясно, понятно вводит нас в известный момент интимной или общественной жизни, известное событие, известную местность. Есть немало художественных произведений, исполнение которых реалистично, но самые эти произведения, в целом, не могут быть причислены к школе реализма». Итак, стремление к реальности изображения, ради которой картины пишутся «на воздухе», – это обстоятельство Верещагин постоянно подчеркивает, – не что иное как стремление ввести зрителя в пространство и время события, создать у него ощущение сопричастности происходящему, воспроизведенному так, как оно было – когда речь идет о том, что художник наблюдал сам, или как могло когда-то быть. В полной мере это положение можно отнести к известным картинам на евангельские сюжеты. Как это нередко бывало у Верещагина, серии его картин переплетались, скрепленные звеньями – «мостиками», перебрасываемыми из времени во время. Трилогия казней складывается в единой целое не сразу. «Расстрел из пушек» – плод индийских впечатлений. «Повешение в России (Казнь заговорщиков в России)» – след событий на родине в начале 1880-х годов. «Распятие» – свидетельство раздумий над Евангелием во время путешествия в Сирию и Палестину. Святые места производят на художника самое тяжелое впечатление. Он знает Палестину такой, какой она стала в XIX веке, – нищей, грязной, убогой. Такой же он видит ее и в исторической ретроспективе. Говорить о Палестинской серии не просто. На выставке в Вене было более 50 картин, местонахождение которых в большинстве случаев неизвестно. Основные знакомы по тоновым воспроизведениям. Сколько можно по ним судить, жизнь Христа и его близких была изображена Верещагиным так, словно это были обычные люди XIX века, жившие в той самой убогой и нищей стране. Скандал в Вене осенью 1885 года вызвали прежде всего полотна «Святое семейство» и «Воскресение Христово». Подобно Ренану, рассматривающему Христа как человека-проповедника нового учения, в картине «Святое семейство», как можно видеть на репродукции (местонахождение картины неизвестно), художник создает даже не реконструкцию – он просто изображает дворик жилища в том виде, в каком такие дворики существовали и существуют на Востоке до наших дней. С ребятишками, валяющимися в грязи, с копошащимися курами, развешанными на веревке лохмотьями, плотничающими мужчинами и занятой готовкой женщиной. Только молодой длинноволосый мужчина, погруженный среди обыденной суеты в чтение и напоминающий канонический образ Христа (лишь в мере, необходимой для его персонификации), да название картины выводят ее из ряда произведений о быте Палестины. В «Воскресении Христовом» изображен очнувшийся от летаргического сна и выглянувший из могилы человек, от которого в ужасе убегают стражи. Ни о каком чуде речь не идет. Все объясняется с позиций позитивной науки. Это произведение в большей мере, чем какое-либо иное из исторических картин Верещагина, дает почву для разговора о чертах натурализма в творчестве художника. Скандал вокруг Палестинской серии разгорелся на Венской выставке 1885 года. Целистин-Иосиф, кардинал Гангльбауэр выпустил даже особое воззвание к верующим католикам, призывая их не посещать выставку кощунственных полотен. Монах-фанатик, проникший на выставку, облил несколько картин серной кислотой. В соборах Вены были организованы трехдневные покаяния. Скандал дошел до уровня австрийского парламента, но, как это часто бывает, с опозданием: выставка, уже прошедшая в Будапеште, направлялась в Берлин. Был ли Верещагин атеистом? Для советского искусствоведения сомнений в этом и быть не могло. Известно, что штудировал сочинения родоначальника позитивизма Герберта Спенсера. Не желал давать деньги «ни на поповское, ни на дьячковское» образование, учился у снисходительного старичка-священника (значит, получал «уроки безбожия»!), отмечал, что каждая из воюющих сторон обращается за помощью к своему богу, восставал против восточного, порой кровавого фанатизма, возмущенной душой был против спекуляции на религиозных обрядах, с одной стороны, душевной заскорузлой дикости – с другой. Наконец, имел смелость написать: «Всегда со всеми воевал за то, что считал справедливым, хотя, вероятно, часто ошибался. Христа уважаю, но правилам его мало следую» (цит по: Лебедев А. К. Василий Васильевич Верещагин С.146). Значит, «несомненно, был атеистом» (Там же. С.140). Но Христос жил в его душе, как в душах большинства его современников, образ Христа не уходил из русской – самой что ни на есть «прогрессивной» живописи. Живопись выносила на поверхность общественного сознания состояние глубокого духовно-нравственного кризиса, который был следствием социального кризиса 1880-х годов. Сам образ Христа в эту эпоху трагичен. Проблема выбора пути, стоявшая в эти годы перед каждой мыслящей личностью в России, некогда прозвучавшая в картине Ивана Крамского «Христос в пустыне», отзывается снова в полотне Василия Перова «Христос в Гефсиманском саду». У Крамского перед его героем (вспомним: «Итак, это не Христос»!) стоит проблема выбора пути. Перов обращается к драме Христа, к той минуте человеческой слабости, которую он пережил в момент «Моления о чаше». Если герой Крамского исполнен решимости пройти нелегкий путь испытаний и подвига во имя людей, то у Перова Христос показан в минуту душевного смятения и горьких сомнений. Но и Крамской задумывает новую картину «Радуйся, царю Иудейский! (Хохот)» как драму Христа и народа. Работает он над ней мучительно долго, но так и не заканчивает ее. Задумав новое трагическое полотно – поругание Христа чернью – Крамской продолжает поиск духовной опоры в жизни «лучшего из людей», взошедшего за них на Голгофу и ими же обреченного на муки. То, что Крамской хочет, мечтает изобразить, – это даже не предательство, как в «Тайной вечере» Ге. Это – озверение толпы, сегодня оплевывающей того, кому вчера поклонялась. И Крамской создает своего рода антитезу «Явлению Мессии» Александра Иванова: историю падения человека, энциклопедию этого падения. Одиночество Христа в толпе куда страшнее его одиночества в пустыне, и герой Крамского, поднявшийся к горним высям жертвенной любви – в первом полотне, во втором оказывается раздавлен улюлюкающей бездушной массой. На огромном (почти 4х5 м) холсте изображено ограниченное каменной стеной с балюстрадой пространство у подножия лестницы, на верхней площадке которой Пилат и Синедрион. Эта локальность пространственной ниши перевернутого, уродливого – временного миропорядка, в котором «лествица совершенств» опрокинута: Христос стоит у ее подножия, в то время как наверху поместились его судьи. Это своего рода антитеза пространству картины Иванова, символизировавшему всемирность и всезначимость закона восхождения к духовно-нравственной вершине, а главное – непреложность и неизбежность для каждого человека исполнения этого закона. В новой картине Крамского изображен краткий отрезок времени, которое отведено на земле человеку и в котором он должен решить тот самый вопрос – «взять ли за Господа Бога рубль или не уступать ни шагу злу». Когда мир может оказаться перевернутым. И Христос – Бог-Слово – в этом пространстве окажется внизу, в толпе глумящихся над ним. В лице Христа Крамского нет даже той горечи, которая таится в складках рта «Христа перед судом народа» М. М. Антокольского (1874, НИ РАХ). Кажется, он не слышит ни грубого хохота, ни издевательских выкриков, сливающихся с воем труб. И только спокойствие этого небольшого роста человека со связанными руками и бледным лицом, обрамленным спутанными рыжеватыми волосами, позволяет догадаться о его божественной природе. Он знает все и все понимает. Все может простить людям, которые «не ведают, что творят». Тема одиночества Христа как человека, поднявшегося «до такой высоты, на которой остаешься одинок» именно в «толпе», а не среди народа – изначальна (И. Крамской). Постепенно уточняются лица толпы: соскучившиеся «римские солдаты», снисходительно наблюдающая происходящее «в белоснежных костюмах аристократия», «Пилат и высшие представители власти и знатности», которые «благосклонно, но, конечно, сдержанно одобряют эту глупую шутку».Крамской ищет оправдания народу – жертве обмана: «После уже Пилат воспользовался этим, чтобы подействовать на народ» (Крамской И. Письма. Статьи. С.342, 343). Поругание Христа предстает в замысле как трагическое столкновение нравственного идеала с жестокой реальностью, высот духа с бездной духовного падения. Среди разнообразных лиц черни, варваров-наемников, усмехающихся римлян лишь одно выдает сострадание герою. Странно знакомыми кажутся внимательно вглядывающиеся из-под римского шлема небольшие глаза, развитые надбровные дуги, выступающие острые скулы, прямой хрящеватый нос. Намеренно ли придал художник этому персонажу черты автопортретного сходства или это произошло помимо его воли? В сущности, Крамской, возможно, сам того не осознавая до конца, разрабатывает анатомию толпы. Художник, «пластически концепирующий» и мыслящий образно – видящий целостно и потому вносящий в свое творение не только осознанное, но и то, что приходит на кончик кисти из таинственных глубин неосознаваемого психического, борется в нем с аналитиком, человеком осознанных убеждений. Демократ до мозга костей – что бы ни говорили по этому поводу его современники, – для кого само понятие «народ» свято и неподсудно, он, как Суриков, открывает в творческом процессе неоднозначность этого понятия, неустойчивость массы, прозревает как художник то, что остается скрытым для его разума. И при этом – не хочет и не может поверить себе. Картина осталась незаконченной и оставила в душе автора горький след неудачи. Причин тому было несколько. Первая – материальные затруднения. Ни П. М. Третьяков, ни А. С. Суворин, ни «неизвестное превосходительство», письмо к которому хранится в архиве, не пожелали «на корню» купить картину Крамского. Сегодня, когда мы, прошедшие искус живописи конца ХIХ-ХХ веков, смотрим на грандиозное полотно, оно не оставляет впечатления незавершенности формы. В нем есть незавершенность мысли – не та целостность, которая провоцировала дискуссии у картин Ге и Сурикова, а именно незавершенность главного – образа Христа… Вторая, немаловажная причина если не объективной неудачи, то неудовлетворенности картиной самого автора, возможно, кроется в том, что замысел был слишком сложен для того, чтобы картина могла быть написана «как портрет»: «Я пишу картину, как портрет, – передо мной, в мозгу, ясно сцена со всеми своими аксессуарами и освещением, и я должен скопировать. Картина плоха, значит, я не мог ее сделать, и только». И хотя дальше Крамской пишет упрямо: «Искать ошибки в том, что прежде не было сделано эскиза, мне не послужит ни к чему» (И. Н. Крамской. Переписка. Т.2. С.297, 298) – замысел, соизмеримый с «Явлением Мессии» Иванова, требовал длительного процесса, того самого художественного – пластического концепирования, к пониманию важности которого художник приходит в последние годы жизни. Той самой «бессознательной» работы, воплощаемой в практике – движении карандаша или кисти, которая и отличает истинного художника и свидетельством которой являются подготовительные материалы. Да и портрет здесь был ни при чем: Крамской хочет перенести на полотно образ-представление, явление, представшее внутреннему взору. Однако то, что было возможно для средневекового изографа, имевшего опору в каноне, в уединении и полной сосредоточенности на видении, наконец, в глубочайшей вере, помогающей сохранить гармонию души, было уже невозможно для живописца и человека эпохи позитивизма. Тем более при воплощении не идеала, а больной проблемы больного века. И, возможно, самая главная причина – упомянутое выше противоречие между результатом творческого процесса и осознанными убеждениями художника. Не случайно Крамской, рассказывая о замысле, акцентирует различие между «толпой» и обманутым «народом». Душевный дискомфорт его сродни тому, который испытывал Перов, работавший над «Судом Пугачева». Тот, который дано будет пережить Репину, столь же долго мучавшемуся над «Арестом пропагандиста». Все три художника просто не в силах были преодолеть себя и пойти наперекор общественному мнению, в эти годы продолжающему созидание культа угнетенного народа. Даже представить себе, что этот народ будет кричать «Распни его!» было невозможно. Мужик, угнетенный и требующий сочувствия в годы 1860-е, превращается в богатыря и личность – в 1870-е, в главную силу, главный двигатель истории – в 1880-е годы. Один Виктор Максимов – мужицкая кровь – решится в «Семейном разделе» подойти к жителям деревни «без перчаток». Пройдет не одно десятилетие, прежде чем Сергей Коровин увидит в полной мере расслоение русской деревни, а Малявин решится показать крестьянский русский мир как стихию – и в пляске устрашающую, непредсказуемую, опасную. Подойдя к опасной черте, за которой открывалось видение общечеловеческой истории за гранью социального анализа, Крамской отступает. Картина остается незаконченной. В 1887 году Крамской умирает – за мольбертом, во время сеанса портретирования доктора К. А. Раухфуса, во время разговора о картине В. Д. Поленова «Христос и грешница» (1887, ГРМ), которая появилась на пятнадцатой передвижной и невольно воспринималась в сопоставлении с «Боярыней Морозовой». В обеих звучали проблемы столкновения двух вероучений, в обеих были представлены толпа и жертва, вера и фанатизм; в обеих – народная сцена в открытом пространстве, в обеих – сила воздействия слова на людей – и в этом художники идут за Ивановым. Наконец, обе явно принадлежали новому направлению, которое называли то реалистическим, то, по старой памяти, натуральным. В чем-то картина Поленова даже выигрывала – более крупная по размеру, нарядная по колориту – светлая и теплая. Но на этом общность кончалась и начинались различия. Причем дело было не в том, что Суриков брал реальный эпизод из отечественной истории, а Поленов – евангельскую притчу. Казалось, полотно Поленова было лишено цельности и однозначной обязательности каждого из составлявших ее структурных элементов. Образная основа композиции Поленова – те же «весы судьбы», которые некогда положил Иванов в основу «Иосифа» и которые восходят к канону «Страшного суда». На одной чаше – толпа и испуганная грешница, на другой – сам Бог-Слово с учениками. Фанатики-фарисеи – земные судьи – помещены между двумя пространственными зонами. Поленов, следуя притче, – используй он опыт Иванова, – должен был показать хоть какие-то признаки возможности нравственного переворота в душах людей толпы, хоть в ком-то намек на способность задуматься над вопросом: безгрешен ли я сам? Однако художник не дает зрителю ни малейшей возможности «развернуть время» вперед в направлении, указанном Евангелием: перед Христом бездушная и озверелая толпа изуверов и фанатиков, скопище людей, охваченных самой низменной злобой, на которую воздействовать силой Логоса невозможно. Потому безмолвен Он, печально взирающий на происходящее, каменно неподвижны ученики, окружившие учителя. Слово не произнесено (так считал Гаршин) – или не услышано? – и женщина обречена быть забитой камнями – как позднее теми же людьми будет отправлен на крест и сам Спаситель. Не грешница, и даже не Иисус – главные действующие лица – не скажешь – герои – для Поленова, а именно эта разъяренная толпа провокаторов, притащившая женщину – почти ребенка – на суд. Это уловил опять-таки В. М. Гаршин. В уже цитированной выше статье, выступая с позиций «человека толпы», он утверждает значение впечатления, которое образ производит на зрителя, на «толпу». Теперь эта «толпа» зрителей должна была посмотреть на «толпу» в картине – и обратить свои взоры внутрь собственной души. Почему так упорно, почти навязчиво из картины в картину переходит тайно тревожащая наиболее чутких людей эпохи тема толпы и тема фанатизма? Великий Инквизитор Достоевского, боярыня Морозова – Сурикова, фанатики-судьи – Поленова? Толпа – у Верещагина, у Крамского, у Поленова?.. Александр Иванов в «Явлении Мессии» строит свою композицию так, что зритель если и не понимает, то чувствует, что все дороги ведут человечество к Высшей Божественной Истине. Поленов останавливается перед вопросом: может ли Слово Божие достичь душ этих изуверов, повернуть их глаза внутрь себя, в глубины собственной грешной души, пробудить в них способность к сочувствию и сопереживанию. И приводит зрителя к скорбному выводу: не может! К выводу, которого Крамской боится и не заканчивает картину. Суриков в этом отношении больший оптимист, нежели Поленов и Крамской. Живописные достоинства картины – пленэрный фон, убедительный этнографический антураж, солнечная, сияющая свежестью живопись могли показаться избыточными, отвлекающими от главного смысла эпизода, если бы не глубокая трагическая нота, подчеркиваемая этим диссонансом: в созданном Творцом прекрасном мире человек – носитель насилия и греха, жестокости и нетерпимости. Огромное полотно, сияющее светлой пленэрной живописью, едва не было запрещено цензурою: снова образ Христа казался сомнительным, не соответствующим канону, слишком очеловеченным. В героях картины видели современных «жидов», а не «древних евреев» (Московские ведомости. 1887. 15 марта). Все разговоры такого рода прекратились после посещения выставки императором: картина была не только высочайше одобрена, но и приобретена. Отношение Поленова к церкви было достаточно сложным. Это характерно для многих интеллигентов второй половины ХIХ века. В ответ на приглашение Виктора Васнецова принять участие в росписях Владимирского собора в Киеве он пишет: «Я решительно не в состоянии взять ее на себя… Я совсем не могу настроиться для такого дела…Ты – совершенно другое, ты вдохновился этой темой, проникся ее значением, ты искренне веришь в высоту задачи, поэтому у тебя и дело идет. А я этого не могу<…> Догматы православия пережили себя и отошли в область схоластики. Нам они не нужны». И добавляет: «… для меня эта вся богословия совершенно лишняя. Это повторение задов, уже высказанных тогда, когда религия была живой силой, когда она руководила человеком, была его поддержкой, он ей и дарил Юпитера Олимпийского, Венеру Милосскую, Мадонн и Сиктинскую капеллу» (Поленов В. Д. Письма. Дневники. Воспоминания. С.243–244). Поленов, работающий над картиной «Христос и грешница», пытается мягко подвести зрителей к размышлениям и саморефлексии. В отличие от Николая Ге, стремящегося потрясти их души. Ге был не единственным «идеалистом», надеявшимся своей картиной перевернуть душу зрителя. Верещагин для этого использовал ужасы реальности, передаваемые с буквальной прозекторской точностью. Можно сказать, анатомировал и современное, и историческое явление. Ге выбирает другой путь. Он, как Верещагин, стремится заставить зрителя «рыдать, а не умиляться», но использует не силу факта, а мощь «живой формы». Он возвращается к теме Христа в 1880-е годы с новыми силами и с новым пониманием своих целей. И теперь космическая драма Богочеловека звучит в его картинах в полную силу. В жизни художника конец 1880–1890-е годы составляют новый этап и жизни и творчества. «Опростившийся» вослед Л. Н. Толстому, искренне увлеченный учением о непротивлении злу насилием, Ге делает попытку создать иллюстрации к рассказу «Чем люди живы» – и терпит неудачу: холодные академические рисунки эти ничего общего не имеют с манерой Ге и скорее могли быть приписаны кому-то из третьестепенных художников академического толка. Ге-толстовец не подчинил себе Ге-творца. Как художник, он скорее близок к Достоевскому, прокладывающему дорогу экспрессионизму в его русском варианте: когда «око духовное» формирует образ, недоступный оку физическому, тот, который средневековые иконописцы называли «Явлением», а современные ученые определяют как образ-представление. Ге в 1884–1886-х годах делает эскизы к Евангелию. На семнадцатой передвижной выставке, открытой в Петербурге 28 февраля 1889 года, зрителям представлена картина «Выход Христа с учениками с тайной вечери в Гефсиманский сад» (1889, ГРМ, эскиз 1888 – в ГТГ). В «Записках», цитируемых Стасовым, Ге пишет: «Толстой и мы искали одного и того же. Для меня началась новая жизнь. Я с совершенно новой точки зрения написал картину «Выход с Тайной вечери». Христос почувствовал начало агонии, которая преследовала его раньше. В этой картине у меня новое отношение к Христу…» (цит. по: Нитколай Николаевич Ге, его жизнь, произведения и переписка. Составил В. Стасов. М., 1904. С.313). Впервые в русской живописи появляется евангельская картина, у которой, собственно, нет сюжета – не Распятие, не тайная вечеря, не притча, не знаменательный эпизод из жизни Спасителя. Просто – выход Христа с учениками из дома, где он простился с ними на пороге крестного пути. «Новое отношение к Христу» – это попытка передать Его внутреннее состояние средствами дотоле не использованными. Не мимика, не поза, не жест, не воплощенное Слово – лишь свет и пластика, цвет и ритм – то, что художник позднее определит понятием «живая форма». «Выход с тайной вечери» – это торжественный покой мира ночи: серебристого лунного света, льющегося с синего прохладного неба и высвечивающего шершавые камни старой постройки, изъеденные временем ступени отлогой лестницы, по которой спускаются опередившие Учителя апостолы. Снова, как у Крамского, появляется мотив лестницы, ведущей вниз. Но в ином, хотя также трагическом значении: это торжественное сошествие навстречу крестной муке – духовный подъем по «лествице совершенства» на вершину Голгофы. И предчувствие страшного одиночества на этой вершине: «Боже мой! Боже мой! Для чего Ты меня оставил?» ( Евангелие от Луки, гл.16, ст.128). Христос предстает в картине в момент выхода из узкого замкнутого пространства в благоухающую, наполненную фосфорическим зеленовато-голубым свечением ночь, наедине с небом, к которому он поднял глаза. По сравнению с эскизом, где пространство вокруг Христа высвечено словно теплым софитом, в картине тьма сгущена, гамма более холодная и темная, силуэты учеников и дальние купы деревьев почти сливаются с фоном. Трагизм этих первых шагов на Голгофу через одиночество, ожидающее Спасителя, в час моления о чаше покинутого заснувшими учениками, в картине усилены. Мгновенное замедление на пути – обращенность к Небесам – не снимает ощущения неотвратимости мук на кресте: мерный ритм спускающихся по лестнице фигур – словно отсчет мгновений неумолимо приближающегося распятия. Фигуры безмолвны, темны, краски угасли – лишь кое-где виден тусклый отблеск темно-желтого и темно-красного. Все в картине исполнено особой значимости, и процессия напоминает ритуальное шествие – да и является им. Картина была встречена собратьями-профессионалами в целом одобрительно. Стасов, вообще не видевший живописи и произносивший свой категорический суд на основе сюжета и «тенденции», а потому Ге не жаловавший, после смерти художника изменяет отношение к нему и, может быть, под влиянием Л. Н. Толстого, не может не признать: «Здесь было нечто истинно поэтическое, прочувствованное и в самом деле пережитое внутри самого себя художником» (Л. Н. Толстой. Письмо от 24 апреля 1889 г. Цит. по: Николай Николаевич Ге. Его жизнь, произведения и переписка. С.316). Но главное – отклик Толстого: «У вас представлено, для меня и одного из 1000000, то, что в душе Христа происходит внутренняя работа» (Там же. С.318), что он «жил, как мы живем, думал, чувствовал, страдал, и ночью, и утром, и днем». Но куда важнее было то, что Толстой писал далее: «Картина делает то, что нужно – раскрывает целый мир той жизни Христа вне знакомых моментов и показывает его нам таким, каким каждый может себе его представить по своей духовной силе. <…> Настоящая картина. Она дает то, что должно давать искусство. И как радостно, что она пробрала всех, самых чуждых ее смыслу людей» (Там же. С.318). Избранная художником форма, экспрессивная и выразительная, более далекая от академической пластики, нежели реалистическая, казалась неряшливой, недоработанной. Следующая картина Ге была более рациональной, более «концептуальной» и по-толстовски повествовательной. В своих «Записках» Ге пишет о начатом в конце 1889 года полотне «Что есть истина?»: «Дорого было изобразить ту минуту, когда Христос со своим учением стоит перед тем, кто отрицает это учение. Пилат считал себя властью, Христос же говорил: Я – царь без солдат. Царь есть свободный человек. Я родился для того, чтобы доказать эту истину. Человек – существо разумное, свободное. Пилат спрашивает: «Что есть истина?..» Для него нет одной истины, для него существует много истин. Пилат боготворил физическую силу, Христос же есть существо убеждений. Важно было показать столкновение этих двух начал» (Ге Н. Н. Письма. Статьи. Критика. М.: Искусство, 1978. С.320–321). Противостояние Христа и Пилата по мотиву перекликается с картиной «Петр I и царевич Алексей», колористически – с «Тайной вечерей», но и мотив, и семантика цвета и света здесь существенно иные. Власть и сила физическая и духовная, холеное благополучие и страдание сошлись в пространстве, разделенном на свет и тень, теперь представшие как освещенное, видимое всем, лежащее на поверхности, назойливо лезущее в глаза, – и то, что не сразу открывается глазу, во что надо всматриваться в поиске истины. Вослед Толстому, у которого в «Войне и мире» контрастно сопоставлены ничтожные красавцы Элен и Анатоль Курагины и прекрасные в своей некрасивости Пьер Безухов, Марья Болконская и Наташа Ростова, Ге лишает главного героя какой бы то ни было внешней привлекательности. Сын плотника – связанный, избитый, с взлохмаченными волосами, одетый в рубище – таким представлен Христос. Ге беспощадно высвечивает жирную розоватую со складками шею Пилата, его редкие, липнущие к черепу остриженные в кружок волосы, приподнятые усмешкой крылья толстого висячего носа и насмешливо прищуренный глаз, дрябловатую старческую руку, протянутую к связанному человеку. Скульптурно лепит тяжелые складки тоги, широко расставленные, уверенно попирающие покрытый плитками пол ступни. Для Ге, как для Толстого, Христос – бог нищих и угнетенных, конфликт его с Пилатом – конфликт социально-нравственный, вечный – и остро актуальный. Так его понимал сам Ге, так трактовали современники. Такого Христа не приняли многие даже из благожелательно настроенных по отношению к Ге людей. На упреки художник отвечал: человек, которого били всю ночь, не может быть свеж, как роза. В конце 1890 – начале 1891 года Ге занят новой картиной – «Совесть. Иуда» (ГТГ), в 1892 представляет на двадцатую передвижную выставку не самое выразительное свое полотно – «Суд Синедриона. «Повинен смерти!» Однако Президент Академии художеств Великий князь Владимир Александрович картину на выставку не допускает. В том же 1892 году Ге возвращается к работе над «Распятием», начатой еще в 1884. По свидетельству В. В.Стасова, картина переписывалась 19 раз. Нет произведения в русской живописи, которое так ясно свидетельствовало бы о разрыве с национальными традициями, как «Распятие» Ге. Чтобы это почувствовать, достаточно вспомнить «Распятие» 1500 года кисти Дионисия – одну из вершин, в которой с очевидностью воплощены основные принципы русской средневековой живописи. Но Ге не следует и традициям европейской живописи. В Христе русской иконы вплоть до XVII века нет следов страдания казненного человека. В иконе Дионисия тело Спасителя парит над крестом. Это изображение скорее вознесения, оно вызывает у предстоящего – верующего и неверующего – чувство возвышающее, то, что именуют воспарением духа. Миметические традиции европейской живописи были подчинены иной задаче: вызвать сострадание путем самого достоверного и убедительного изображения страстей Христовых. Примеров можно привести неисчислимое множество, но, может быть, самый красноречивый – «Распятие» Грюневальда из Изенгеймского алтаря. У Ге – иное. Он не пытается достоверно и скрупулезно «правильно» изобразить смертные муки. Его рука «кодирует» то страдание, которое переживает сам мастер. От картины к картине форма Ге становится все более экспрессивной. Его эскиз «Христос и Никодим» (1889, ГТГ) написан широко и свободно, решен на противопоставлении контрастных цветовых пятен. Страстное слово проповедника, обращенное к пришедшему к нему под покровом ночи знатному фарисею, кажется, взрывает холст изнутри. В картине «Что есть истина?», Ге делает свет беспощадно ослепительным и тем подчеркивает его смысл. В «Распятии» (1892, Музей Орли, Париж) сам мазок становится носителем чувства – если судить по подготовительной работе «Голова распятого Христа» (1892–1893, Киевский музей русского искусства). «Голгофа» – последняя из сохранившихся картин евангельского цикла Ге – находится в Третьяковской галерее. 26 октября 1893 года Ге пишет Толстому: «Да, эта картина («Голгофа». – Н. Я.) меня страшно измучила, и наконец я вчера нашел то, что нужно, т. е. форму, которая вполне живая <…> я нашел способ выразить Христа и двух разбойников вместе, без крестов, на Голгофе, только что приведенных. Все три – страдальцы, и страшно поражает молитва самого Христа. Одного разбойника бьет лихорадка, другой убит горем, что жизнь его погана и вот до чего довела… три души живые на холсте. Я сам плачу, смотря на картины… Я сразу всей душой почувствовал и выразил» (Н. Н. Ге. Стасов. с. 374–375). Как Суриков в «Утре стрелецкой казни», Ге в «Голгофе» схватывает самое страшное мгновение предчувствия муки. Картина запечатлевает не реальность в ее подробностях, а образ, словно бы отпечатанный во внутреннем видении человека, в ужасе закрывшего глаза перед страшным зрелищем. Мир обесцвеченный, потерявший свои радостные краски, мертвенное кроваво-белесое – цвета сукровицы – марево. Мир вне времени – бесконечно длящееся мгновение. Смазанное, опрокинутое небо над запрокинутым в муке-молитве лицом человека в страшный миг предсмертного отчаяния. Землисто-бледным лицом под волосами, поднявшимися дыбом над жестко-красными терниями венца. Губы сжаты в беззвучном стоне. Глубокая тень заострившегося носа падает на запавшую щеку. Страдальчески сведены брови над крепко стиснутыми веками. Обнаженные исхудалые руки судорожно сжимают лоб. Фигура образует форму креста. И снова – одиночество, тьма, в которой горит грубая, кровавым контуром обведенная указующая рука палача. Фланкирующие фигуры разбойников – кающегося и злобствующего – это два полюса человеческой натуры. Оба далеки от понимания истинного смысла происходящего, как животные, приносимые на заклание. Один – сломлен, болезненно бестелесен. Бледно-желтое длинное одеяние скрадывает очертания тела. Болезненно приподняты плечи. Беспомощно клонится голова на тонкой шее. Чуть приоткрыты бескровные губы, смотрят вниз невидящим взором глаза. Покаяние приходит к этому человеку до распятия, не через муку на кресте – он уже в этот миг приближается к осознанию своей греховности. Злобно оскалены мелкие неровные зубы второго разбойника, черная щетина покрывает его щеки. Округлившиеся белые глаза с черными точками зрачков не в силах оторваться от палача, чья фигура угадывается за пределами пространства картины. В центральную группу включено еще одно действующее лицо, обычно не замечаемое зрителями: испуганные глаза, приоткрытый рот – лик ужаса. Кто он, стоящий сразу за спиной Христа с копьем в руке? Сотник Лонгин – тот, кто уверовал на Голгофе и сократил муки Спасителя? В этом случае композиция получает особое истолкование. В ней одна живая душа – раскаявшийся, он уже в царстве света, его фигура окружена сиянием, отделена им от остальных. За спиной Христа – представители грешного человечества, заблудшие овцы, одна из которых на пути к спасению, другая – к гибели. Экспрессивно, страстно разрабатывает Ге ту же тему «лествицы» нравственного восхождения, которая проходила через все творчество Иванова, и прилагает все усилия к тому, чтобы, по выражению Толстого, «заразить» зрителей своим чувством. До сей поры на этикетке картины значится: «Не окончена». Но спустя столетие можно с уверенностью сказать: художник не случайно, не в самообольщении сообщал Толстому о том, что наконец нашел «живую форму». Рядом с гладким академическим письмом, внимательной лессировочной живописью художников-передвижников широкая, экспрессивная манера Ге, принципиально отрицавшего «зализанность», разрабатывающего «живую» форму, в которой отпечатывается движение руки, взволнованной сердцем, воспринималась современниками как небрежность и незаконченность картин. Даже фактура его холстов, хранящая след глубокого чувства живописца, со слезами на глазах воплощающего муки «лучшего из людей», порождает у зрителя ответный эмоциональный отклик и ощущение сопричастности отображенным на полотне событиям, вызывает внутренний протест против всяческой жестокости, и ныне существующей в мире. В этом непреходящая нравственная ценность произведений великого русского художника. В 1880-е годы продолжается развитие исторического портрета. Самые заметные шаги в развитии этого жанра делает Илья Репин. Его «Царевна Софья» была историческим портретом-картиной, принадлежала сразу двум жанрам, и это раздражало зрителей, хотя и обостряло их восприятие. Работая над картиной «Иван Грозный и сын его Иван…», Репин ослабляет портретное начало, его прием внутренне оправдан, но снова вызывает упреки. В конце 1880-х Репин создает несколько «чистых» исторических портретов. Так синкретический образ картины «Царевна Софья» как бы «расщепляется» на две самостоятельные «жанрово чистые» ветви. В конце 1880-х годов Репин серьезно работает над историческими портретами галереи замечательных русских людей Третьякова и предлагает несколько вариантов образного решения: конкретно-исторический, в котором безусловно доминирует центральный образ (М. И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила», 1887, ГТГ; «А. П. Бородин», 1888, ГРМ); «синтетический» – «портрет-памятник», основанный на преобладании социальной роли изображенной личности («Т. Г. Шевченко», 1888, Государственный музей Т. Г. Шевченко, Киев); символико-метафорический («Ф. Лист», 1888, Московская Государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова), «А. C. Пушкин на берегу Черного моря» (совместно с И. К. Айвазовским, 1887, Всесоюзный музей А. С. Пушкина, Санкт-Петербург). По сути, Репин, уже опытный и даже знаменитый портретист, утративший молодой задор, признает, что исторический портрет требует «обсказанности», атрибутов и сюжета, помогающих более убедительно и «наглядно» раскрыть суть личности и «шлейф» – значение ее деятельности – так, как это было сделано в «Царевне Софье». Именно это он имеет в виду, говоря, что «остается одно – делать картину». По этому пути и идет в дальнейшем – за редкими исключениями. Так создается портрет М. И. Глинки. В 1884 году написан «Композитор М. Глинка (Национальный музей в Белграде). Свет зажженных свечей выхватывает из темноты экстатически вдохновенное лицо и вытянутые, брошенные на клавиши руки. Повышенная экспрессия, видимо, не удовлетворила художника, и в окончательном варианте он предпочитает более сдержанную реалистическую трактовку образа. В названии нового портрета обозначено время действия: «Михаил Иванович Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила»» (1887, ГТГ) – первой русской национальной оперы. Композитор изображен «без напряжения творящим» (И. Е. Репин. Избранные письма. Т.2. С.319) – так, словно художнику удалось подсмотреть момент самый интимный и в то же время – «социально-ролевой». Репин использует все доступные иконографические материалы и создает на их основе синтетический образ, отказавшись как от излишних атрибутов, так и от какого-либо пафоса, что дает основания критикам обвинить его в том, что изображен великий человек, увиденный глазами его камердинера (***(С. В.Флеров). Передвижная выставка // Московские ведомости. 1887. 19 мая. № 127). Вместе с портретом Глинки на пятнадцатой передвижной был выставлен портрет Ф. Листа – в сутане, с молитвенником, окруженного призрачной вереницей освещенных факелами фигур в капюшонах с прорезями для глаз. Ритмический строй этого шествия противопоставлен пляшущему хороводу скелетов в правом нижнем углу полотна. Львиный профиль, осененный разметавшимися седыми волосами до плеч, довершал впечатление. Два портрета, в которых автор попытался контрастно передать состояние творческого вдохновения, представляли собой и разнонаправленность эскперимента мастера. Попытка оторваться от бытовой обстановки и представить в картине неясное кружение образов, возникающих перед внутренним взором композитора, была воспринята зрителями как наивный прием, хотя в принципе Репин работает с метафорическим «образом-представлением», пусть и не очень удачно. Критикой эксперимент Репина был воспринят более чем прохладно. Метафора лежит и в основе созданного в том же 1887 году совместно с Айвазовским полотна «Пушкин на берегу Черного моря». Это еще одна попытка создать «синтетический» исторический портрет-картину, в котором материальная среда и памятный всем сюжет «Прощай, свободная стихия» превращены в метафору, призванную воплотить пафос свободолюбия поэта. Новый опыт был принят публикой почти восторженно, он легко «прочитывался», а мастерство двух признанных мэтров русской живописи оценено по достоинству. В дальнейшем в сходных случаях Репин чаще всего использует будничную реконструкцию облика всем памятных людей. Изображает А. П. Бородина (1888, ГРМ) в концертном зале Дворянского собрания у колонны – таким, каким друзья и современники запомнили этого видного представителя «Могучей кучки». М. С. Щепкина (1888, Театральный музей А. А. Бахрушина) – в последние годы жизни актера, также в том виде, он остался в памяти современников. Образ обаятелен, согрет живым чувством и вызывает симпатии зрителя. Но, может быть, наиболее удачным оказался портрет Т. Г. Шевченко (1888, Киев. Государственный музей Т. Г. Шевченко), написанный по заказу Петербургского украинского товарищества для помещения «в хатке, что стоит возле могилы поэта» (Художественное наследство. Репин. Статьи и материалы. М.; Л., 1949. Т. II. С.82). По контрасту с признанным портретом И. Н. Крамского, представляющим мудрого, эпически-спокойного поэта, Репин создает образ Кобзаря страстного, автора строк, горящих ненавистью: «Кайданы порвите и вражею злою кровью волю окропите». Отказавшись от какой-либо атрибутики, художник сосредоточил всю силу выразительности в изображении упрямо выставленного огромного лба «набыченной» головы и мрачно горящего взора. Напряженный коричневато-красный фон довершает и усиливает впечатление. Современники рассматривали (и оценивали!) посмертные – исторические портреты Репина в ряду его прекрасных натурных образов, с которыми они, конечно, не выдерживали сравнения. Но в истории русской живописи эксперименты мастера имели продолжение, и каждый из его опытов впоследствии дал живой росток. Образ творческой личности прошлого, – заметим, недавнего прошлого, – был одним из способов преодоления того душевного кризиса, который переживало русское общество в «мрачное, унылое» время. Едва ли не единственная в 1880-е годы заметная попытка напомнить героическое прошлое России представляет собой исторический групповой портрет-картина Алексея Кившенко «Военный совет в Филях в 1812 году» (1882, ГТГ) – работа хрестоматийная, но весьма маловыразительная, примечательная разве что своим правдоподобием. Опоры общественному сознанию историческая живопись этого десятилетия не находит даже в исторической памяти о седой старине, породившей образы былинных героев. Виктор Васнецов продолжает разрабатывать новый – фольклорно-исторический жанр, но больше по мотивам сказок – и то по заказу. А вскоре целиком на годы посвящает себя живописи церковной. В конце 1870-х годов Васнецов получает заказ от С. И. Мамонтова – на три картины для украшения кабинета правления Донецкой каменноугольной железной дороги. С Мамонтовыми он в эти годы сходится близко, подолгу живет в Абрамцеве вместе с другими художниками. Абрамцево превращается в своего рода культурный центр – с обширной программой и ориентацией на отечественные культурные традиции. Картины задуманного цикла разнородны: «Бой скифов со славянами» (1881, ГРМ, авторское название – «Битва русских со скифами», в ГТГ – «Скифы», эскиз. 1881), «Ковер-самолет» (1880, Нижегородский художественный музей, эскиз – ГТГ) и «Три царевны подземного царства» (1881, первый вариант – Киевский музей русского искусства, второй – 1884, ГТГ). Картины по замыслу должны были представить трилогию: «Первая из картин показывала далекое прошлое этого края, вторая – сказочный способ передвижения, и третья – царевну золота, драгоценных камней и каменного угля» (из письма В. Мамонтова, цит. по: Моргунов Н., Моргунова-Рудницкая Н. В. М. Васнецов. М.: Искусство, 1962. С.183). Однако трилогии не получилось: «соединительная идея» имела чисто внешний характер и никак не была образно реализована. Произведения спокойно существуют поврозь, каждое – самодостаточно и не требует других звеньев. Первое полотно – это попытка передать прошлое «как оно было», воскресить одну из страниц истории славянской Руси. Жаркая схватка передана убедительно и динамично. Выбирая низкий горизонт, художник сосредоточивает внимание на сошедшихся в смертельном бою двух всадниках – славянине и кочевнике. В этом полотне художник возвращается к реалистической системе изображения, выдерживая его в пределах образа, для зрителей достоверного и убедительного. «Ковер-самолет» вызвал резкое неприятие, сегодня малопонятное уже потому, что художнику, жившему задолго до появления летательных аппаратов, удалось убедительно передать и ощущение парения над землей, и пейзаж – поистине «с высоты птичьего полета», и разгорающееся свечение жар-птицы в вечереющем воздухе. Статуарность и красота героя тоже не вызывают раздражения сегодняшнего благодарного – в основном юного зрителя, с удовольствием рассматривающего и картину, и ее репродукцию в учебнике. Ранний вариант «Царевен» (1879, ГТГ) не требует сюжетных пояснений: печальная, хрупкая и милая, царевна, олицетворяющая каменный уголь – главное богатство края, словно девушка-чернавушка в картине Репина «Садко», противопоставлена двум богато разодетым сестрицам. В черном иссиня платье, с венцом, пылающим синим огоньком, она печально стоит, опустив руки, и ее скромная красота должна свидетельствовать о ценности сокровища земных недр. Можно и не заметить, что горюет она у черного провала, где заключен ее спаситель-сказочный герой. Царевны золота и серебра, чьи перегруженные драгоценностями фигуры тяжелы, словно выкованные из металла, выглядят отчужденными и недоброжелательными. Почти квадратный формат придает картине дополнительную «земляную» тяжеловесность, усиливаемую темными глыбами камня. На этом фоне фигура младшей царевны кажется еще более хрупкой. Куски искрящегося гранями антрацита на первом плане довершают впечатление. Картины были отвергнуты «тогдашними знатоками и любителями» и остались в собственности братьев Мамонтовых. А художник продолжает работать над полюбившимся мотивом и создает новый вариант, более тесно связанный с сюжетом сказки (1884, Киевский музей русского искусства). Теперь старшие выглядят не как «супротивницы» младшей сестрицы, а как ее защитницы от крадущихся к ней вероломных братьев героя. Но усиленное сюжетное начало вносит в полотно оттенок иллюстративного многословия. Между тем художник добивался иного: ему хотелось вызвать ощущение таинственной сказочности образа. Васнецов экспериментирует. Попытавшись «прорваться» к реальности прошлого в «Витязе на распутье», сохранить равновесие поэзии и реальности – в «После побоища…», он создает свою знаменитую «Аленушку», словно стараясь будничный окружающий мир увидеть глазами своего народа, прозревавшего в сирых и несчастных не «богом обиженных», а «убогих» – «у бога» и под его защитой пребывающих. В каталоге передвижной выставки картина имела подзаголовок: «Дурочка». Художник весьма старательно работает над полотном – сохранились и наброски, и эскизы, и этюды с натуры, доказывающие, что он придает новой картинее особое значение. Упорно ищет соотношение фигуры с фоном, позу девочки, меняет натуру – ему нужен мягкий и миловидный облик. Особенно много работает над пейзажем. Вообще начало 1880-х годов в творчестве Васнецова — это «пейзажное» время, когда, общаясь с творческим сообществом, объединившимся вокруг Абрамцева, он создает целый ряд прекрасных пейзажей поэтических окрестностей. В конечном итоге ничто, кроме названия, в котором звучит имя героини одной из самых популярных народных сказок, да водоема, над которым сидит Аленушка, не связывает картину со сказкой, в которой над омутом горюет как раз братец-козленочек: его сестрицу утопила в нем злая ведьма. Современники не связали образ со сказкой, да и вообще не особенно-то заметили картину, появившуюся на той же выставке, где были представлены «Стрельцы» Сурикова. Редкие критики отмечали то сочувствие, которое вызывает поэтичный образ девочки. Поэзии русской природы, печалящейся о сироте, никто из них не воспринимает. А между тем для себя Васнецов делает весьма важное открытие – пролагает еще одну тропинку к поэтизации родной природы и активному ее образу в картине – не просто аккомпанирующему главному, но созвучному и равноправному ему. Сегодня «Аленушка» Васнецова воспринимается как печальная и кроткая душа русской природы во всей ее беззащитной прелести. В 1881 году Васнецов получает официальный заказ на создание фриза «Каменный век» в круглом зале Исторического музея – и снова откладывает работу над «Богатырями». Дело было новым, необычным и крайне увлекательным: изобразить далеких первобытных предков современного человека. При этом следовало создать замкнутую круговую композицию, да еще и в Историческом музее, где она должна быть познавательной и «научной» по определению. На пять лет он полностью «погружается» – так и пишет Е. Г. Мамонтовой (Васнецов. Письма. С.25) – в свой «Каменный век», до сей поры никем в русском искусстве не превзойденное в этом роде произведение. Конечно, это не историческая картина, но опыт Васнецова сыграл заметную роль в развитии русской исторической живописи, в частности, Николая Рериха. Если в эскизах к фризу еще сохраняются следы академической выучки, особенно в пластике некоторых фигур, то в самой росписи поразительно ощущение подлинности и достоверности изображения сильных, но еще не обточенных цивилизацией тел и движений, лиц, открыто выражающих простые эмоции – свирепого воодушевления охоты, жадного поглощения пищи, торжества победы над огромным зверем, самодовольной демонстрации силы и могущества, дающих власть над соплеменниками. Васнецов избирает землисто-охристую гамму, как нельзя более подходящую для образа «каменного века» – времени пещерного существования человека. Цветовые акценты редки, но убедительны: просветы голубого неба, темное пятно мамонтовой туши, яркие отблески костра, вокруг которого сидят пирующие. В работе над фризом, выполненным маслом на холсте, Васнецов отрабатывает широкий, свободный мазок, который будет так необходим ему при выполнении росписей во Владимирском соборе. Так же, как опыт компоновки монументально-декоративной живописи в ее взаимодействии с архитектурой, Васнецов блестяще решает и задачу создания круговой композиции фриза, и логику соединения отдельных эпизодов, находит меру соотношения пространственной живописи и плоскости стены, которая оберегает зрителя от неприятного впечатления «прорыва» плоскости. Не одно поколение русских гимназистов и школьников выросло на замечательно убедительных, на одном дыхании написанных и с тех пор неизменно иллюстрирующих учебники истории сценах из «Каменного века» Васнецова – как ни странно, самого темпераментного и далекого от его книжных иллюстраций произведения. А в начале 1885 года он получает грандиозный заказ – на росписи только что законченного Киевского Владимирского собора. И снова откладывается работа над «Богатырями», начатая на большом холсте еще в 1881 году, для чего в Абрамцеве построена специальная мастерская. Теперь ради заказа, о котором Васнецов мечтает давно, заказа не только ответственного, почетного и выгодного, но и отвечающего самым глубоким и высоким потребностям душевным. После «Каменного века», по свидетельству Нестерова, Васнецов «спал и видел роспись больших стен» (Нестеров М. В. Давние дни. М., 1941. С.37). Логически рассуждая, церковные росписи следовало бы рассматривать в ряду аналогичных работ современных Васнецову художников. Однако дело в том, что они в его творчестве не стоят особняком, а вот в ряду аналогичных работ занимают свое – особое место. Впоследствии современники отмечали, что Васнецов попал «на перекрестье» ожиданий – художественной критики, реалистов — товарищей по работе и церкви. А между тем главное – это его духовный настрой на работу святую, на задачи традиционные для православного искусства. Для него как для человека православного это – служение вере и людям: «Для нас, православных верующих христиан, ясно, что иконопись в храме имеет великий смысл и значение <…> прежде всего молитвенное, потом учительное и, наконец, служащее к украшению храма…». (доклад В. М. Васнецова. О русской иконописи (НБ АХ Б. и.Б. д. С.1). Для Васнецова эта работа не менее нежели «путь к свету» – ему очень нравится это определение Е. Г. Мамонтовой. Современники художника, исключая крестьян, в обиходе которых икона сохранялась в формах упрощенно канонических, уже почти два столетия молились на образа-картины европейского образца. Собственно церковной живописью Васнецов занимается и в Абрамцеве. Прекрасно зная ее современное состояние, с юности искушенный в иконописании, он опасается, что критика упрекнет его в подражании Рафаэлю – и ориентируется на нечто иное, свое. Учитывает и возможность вмешательства «власть имущих». Он изначально настроен на компромисс – до определенного предела. Как известно, заказ был получен при активном содействии археолога и знатока искусства профессора А. В. Прахова. Что его привлекает в Васнецове и какие задачи он ставит? По сути, это очень скромные задачи и достаточно скромная оценка возможностей художника, Если учесть необходимую комплиментарность (Прахов говорит о «зрелости таланта»), то в его письме от 23 апреля 1885 года (ГТГ Ор. ф.66/379) выделены ««решительное дарование декоративное», «сила и фантазия» творческая как залог способности создать «не часть, а поэтическое целое, не отдельную искусственным образом вырванную картину или сцену, но ряд картин и сцен, связанных между собой эстетической атмосферой изящных и многозначительных, идейно одухотворенных орнаментов». И только. Для Васнецова же заказ – это огромный духовный поворот. Но, человек и художник XIX века, он начинает не с поста и молитвенных бдений, а едет в Италию. Всего месяц – не шесть лет пенсионерства, но общее впечатление он получает огромное. Успевает один день посвятить Равенне, четыре – Венеции, где особенно «увлекся» собором Св. Марка, четыре – Флоренции, неделю – Риму. Говорить о серьезном изучении итальянского искусства не приходится. От такого путешествия остаются впечатления, пусть сильные и яркие, достаточные для того, чтобы уловить общий дух – и, отдавая должное обаянию великих мастеров, по-своему воспротивиться ему. В план росписей, предложенный Праховым, Васнецов по возвращении вносит изменения – увеличивает число русских святых. И приступает к работе – подвижнической, как сам он ее оценивает. Перебравшись в Киев, он сознательно отказывается от работы над картинами, тоскует и по «старой работе», и по музыке, желает, но не может отказаться от всяких «светских» интересов. Но – насколько это возможно для человека и художника все-таки светского, а не инока, подобно Рублеву, полностью сосредоточивается на новом, «сурово серьезном» деле. Труд огромный, пугающий своей грандиозностью, порой доводит его до «оторопи». «Душа так задавлена работой, что где уж тут до творчества», – пишет он В. Дедлову в 1895 году (цит. По: Моргунов Н., Моргунова-Рудницкая Н. В. И. Васнецов. С. 270) Исследователи насчитывают до 400 эскизов и картонов к росписям собора. Едва ли сегодня стоит переоценивать разногласия Васнецова с церковными властями – «блюстителями православия», на которых так горько жаловался Нестеров. Васнецов «выколупывает» образы из воображения, воспитанного на европейской – миметической изобразительной системе, он остается и в этой живописи реалистом – и его образы, рожденные Духом Божиим и в Духе являвшиеся Алипию Печерскому и Рублеву, ему являются во плоти как человеческий идеал. Иными они и не могли быть, ибо адресованы были человеку эпохи позитивного сознания, который иными их не опознал бы и не принял. Ни Васнецов, ни его современники еще и не знают русской иконы – ни домонгольских ее вершин, ни Рублева, ни Дионисия, не имеют возможности постичь тайны ее умиляющего и через умиление – преображающего воздействия на душу. Получив те возможности, о каких лишь мечтал Александр Иванов, Васнецов работает во всю силу таланта – и создает по-своему цельное творение, которое должно пробуждать религиозное чувство у его современника. Велик соблазн остановиться более подробно на стенописи Киевского Владимирского собора, однако к развитию исторической живописи прямое отношение имеют лишь образы русских святых – своего рода «исторические портреты». Они менее трансформированы в эскизах – и о них необходимо поговорить особо. Эскизы точнее передают замысел художника, и не только потому, что духовные власти корректировали росписи. Можно предположить, что, как это нередко бывает, и сам художник смирял свою кисть, памятуя о месте, в котором должно оказаться его творение. О самостоятельной ценности эскизов, особенно заметной при их сопоставлении с окончательными вариантами на стенах собора, говорил еще Стасов. В пределах реалистической изобразительной системы решены те образы русских святых, которые помещены на столпах центрального нефа. Это не дематериализованные «воображены подобия», как в стенописи русских средневековых храмов, уже по своим техническим особенностям способствующей дематериализации. Васнецов, работающий на стенах в технике масляной живописи, столь «удобной» для передачи реалий материального мира, делает небезуспешную попытку создать своего рода «внутренний портрет» святого – изображая его при этом не в Горнем мире, но в дольнем, в его земном бытии. И при этом пытается как-то сгладить сложность, неоднозначность исторической судьбы тех персонажей русской истории, которые шли к свету весьма сложными путями, обретали качества святого нередко в борьбе с самим собою. Таков князь Владимир, по крещении прозревший и потому потрясенно взирающий на мир. В «Крещении Руси» князь чем-то напоминает пророков Микельанджело, хотя это чисто славянский тип с окладистой бородой, в княжеском венце. Такова княгиня Ольга, в эскизе гневная мстительница с лихорадочно горящими окруженными глубокой тенью глазами. В стенописи она обретает кротость и силу духа. И дело не только в требованиях духовной цензуры, которая пристально следила за работой художника. Васнецов не может не понимать, что образ святого предполагает выявление идеальной – духовной сущности личности. Андрей Боголюбский – суровый воин, левой рукой прижимающий к сердцу крест – символ мученической кончины, а правой крепко держащий меч. По сравнению с эскизом лицо стало менее убедительно характерным, но в нем появилось высокое благородство и одухотворенность. Наименее удачен Александр Невский. В этом образе сказалась более всего устоявшаяся со времен Шебуева иконография, в которой героическое – воинское начало отступает перед молитвенным. Фигура Алипия-живописца осенена ангельскими крылами – в напоминание о предании, которое, конечно, было известно художнику. У груди изограф держит икону Богоматери Одигитрии. Бледное старческое лицо хранит выражение просветленной и мудрой кротости. Необыкновенно убедительны образы Преподобного Кукши – просветителя вятичей, столь дорогого сердцу уроженца Вятки, и юродивого Прокопия Устюжского. Фигура Кукши, мудрого и кроткого, а вместе с тем преисполненного духовной силы русского священника, «окрылена» верхушками елей и выступающими из них маковками церковки. Золотисто-коричневая ряса с серовато-голубыми «пробелами» и яркие синие узоры епитрахили на фоне снега составляют скромную и в то же время удивительно красивую гамму. Сжавшийся от холода в своих лохмотьях, согбенный тяжестью вериг Прокопий Устюжский был бы слишком реалистичен, если бы не фон: кажется, вся русская земля, в молитве за которую сложены его иссохшие руки, встает за его спиною. Васнецов пытается соединить в своих былинных, сказочных и христианских образах, как Александр Иванов, внутреннюю и внешнюю жизнь, мир духовный и мир реальный: «Я всегда был убежден, что в жанровых и в исторических картинах – в статуях и вообще в каком бы то ни было произведении искусства – образа, звука, слова – в сказке, песне, былине, драме и проч. – сказывается весь цельный облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть и будущим. Только больной и плохой человек не помнит и не ценит своего детства и юности… плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей истории» (Письмо 1898 г. к В. В. Стасову). Все-таки оторваться от картин было выше сил художника. Он пишет «Ивана царевича на сером волке» (1889, ГТГ). Уже привыкшие к сказкам Васнецова, многие зрители теперь с восторгом принимают его новое произведение, на порядок менее интересное, нежели его «После побоища» или даже «Царевны подземного царства». Для него же эта картина была еще одним экспериментом: полет огромного волка над болотами, поросшими лилиями, цветы дикой яблони в глуши сосновой чащи, завороженная девица в объятиях Ивана-царевича, сияние шелков, парчи, драгоценных каменьев и зототого шитья их одежд, сама чаща – сказочно непроходимая, – все должно было вывести образ за грань реальности. Однако лица на картине напоминали знакомые близким кругу Васнецова зрителям прототипы – его сына и Татьяну Мамонтову. Поза героев, неловкая и странная, придает им неприятное сходство с манекенами. Чаща скорее напоминает театральный задник, нежели живой, пусть сказочно преображенный пейзаж. Это была старая сказка, но в ней – та трагическая нота, которая совсем не соответствовала счастливому концу. Почему так застыло-печальны лица героев? И куда скачет несущий их на своей спине волк?.. 1880-е годы приостановили развитие реалистической историко-бытовой картины – время для нее было неподходящее. Зато политически и идеологически нейтральные бытовые темы охотно разрабатывает Академия художеств. Огромным спросом у публики пользуются нарядные «Боярыни», «Боярышни», «Русские красавицы» — костюмированные натурщицы талантливого Константина Маковского – представителя известного семейства Маковских, живописца яркого, независимого и «всеядного», шутя работающего в самых разных жанрах и легко получающего награды и звания. Такие его картины, как «Под венец» (1884, Серпуховской историко-художественный музей-заповедник) или «Выбор невесты царем Алексеем Михайловичем»(1887, ГРМ), в сущности, укрепляют новую – салонно-академическую модификацию историко-бытового жанра. Впрочем, в Академии назревает смена традиции – реализм готовится вступить в свои права. Поворот к нему можно заметить уже в учебных работах – особенно тех молодых художников, которые приходят в Академию из Московского училища живописи и ваяния с его гораздо большей свободой и демократическими ориентациями, нежели в столице. Один из ярких примеров – начало творческого пути Михаила Нестерова. Прошедший школу Перова и Саврасова в Московском училище живописи и ваяния (вместе с братьями Коровиными, Исааком Левитаном, Андреем Рябушкиным), а затем недолгое время проучившийся в Академии художеств, возвратясь в Москву, он переключается на историческую живопись. Нестерова интересует допетровская Русь, ее быт, который, по словам историка И. Е. Забелина, есть «среда, в которой лежат зародыши и зачатки всех, так называемых великих событий» истории. Но назвать его первые картины в полном смысле историко-бытовыми было бы не совсем верно. Он совершает первые шаги по следам Шварца и даже Якоби с его «Ледяным дворцом»: обличительная нота достаточно явственно звучит в картине «Шутовской кафтан. Боярин Дружина Андреевич Морозов перед Иваном Грозным» (1885, ГТГ, на сюжет повести А. К. Толстого «Князь Серебряный»). Уже в следующем году Нестеров пишет небольшое полотно «Избрание Михаила Федоровича на царство» (1886, ГТГ), вполне справляясь с многофигурной композицией и не по-юношески умело создавая настроение огромной значимости происходящего. Фигура хрупкого Михаила Романова, решающегося взвалить на свои плечи разоренную державу, в полумраке храма выделена светом и цветом, это композиционный и смысловой центр картины. В частном собрании в Москве хранится выполненное на конкурс полотно «До государя челобитчики», за которое в 1886 году Нестеров получает звание классного художника и в 1887 – половинную премию Общества поощрения художеств. Теперь перед зрителем открывается страница дворцового быта допетровской Руси: в сумраке времени тонут детали, оставляя ощущение таинственной тишины ушедшей неторопливой жизни с ее чуждой современной суете величавостью и неспешностью. Получив звание классного художника и Большую серебряную медаль, Нестеров много занимается иллюстрацией – к «Капитанской дочке» и сказкам Пушкина, к «Песне про купца Калашникова» Лермонтова, к «Илье Муромцу» в изложении П. Полевого, причем исследователи отмечают его близость к Виктору Васнецову, также немало занимавшемуся иллюстрациями. Создает он и отдельные рисунки для журналов – на сказочные и исторические темы. Но самая серьезная работа этого периода – серия иллюстраций к книге П. В. Синицына «Преображенское и окружающие его места, их прошлое и настоящее», в которых явно ощущается преемственность, восходящая к Вячеславу Шварцу. Академия 80-х – это явление переходного периода, и само понятие «академическая живопись» теперь теряет определенность: есть круг художников, так или иначе связанных с Академией, учащихся или преподающих в Академии, получающих и присуждающих медали и звания и официальные заказы, как тот же Г. Г. Семирадский, или представляющих на академических выставках свои произведения. Сформированный к этому времени внутренний художественный рынок расширяется за счет более широких – средних слоев населения. Чуть позже этот процесс захватит и передвижников, способствуя формированию так называемых позднепередвижнических тенденций. И все же понятие «академическая живопись» в 80-е отнюдь не утрачивает определенности. Может быть, ничто так ярко не свидетельствует о том, насколько далека теперь Академия от магистрального пути русской живописи, как академическая историческая живопись с ее полнейшей оторванностью от всего, что происходит в стране. Едва ли не главное событие десятилетия – выставка «коронного» произведения Семирадского «Фрина на празднике Посейдона в Элевсине» (1889, ГРМ) была представлена чрезвычайно эффектно: в залах Академии были закрыты огромные окна на Неву, стены задрапированы черной тканью, картину освещали четыре «лампочки Яблочкова». Здесь же были развешаны другие картины Семирадского из античного быта, не столь зрелищные и огромные, но так же ласкающие взор нарядной живописью «под пленэр», очаровательными формами парижских натурщиц с осиными талиями, массой прелестных музейных предметов: «По примеру богов» (целующаяся античная парочка на фоне скульптурной группы в той же позе), «У фонтана», «Перед купанием». Что бы ни писал Семирадский – начиная с ранних картин, «Искушение Св. Иеронима», «Христос у Марии и Марфы», «Христос и самаритянка» или историко-бытовые – античные композиции («Продажа амулетов», «Трудный выбор (Женщина или чаша?)» «Римский нищий»), его картины одинаково нарядны и неизменно безмятежны. Они находят своих поклонников и прозводят фурор среди публики определенного пошиба, не читающей критики таких сторонников реализма, как Стасов. Можно, конечно, зачеркнуть имя Семирадского, так же как многих иных художников, не шедших по магистральному пути, и списать их творчество в разряд спекулятивно-коммерческого. Однако их успехи у публики едва ли можно объяснить просто неразвитостью ее вкуса. Ведь и художники признавали живопись Семирадского «вкусной» – термин специфический, к высокому искусству неприложимый, однако вполне выразительный. Да и мотивировалось творчество Семирадского – противника реализма как копирования «повседневной пошлости» жизни (Репин И. Далекое – близкое. С.196) – не только коммерческими успехами и тщеславием: он был убежден, что продолжает традиции искусства «человеческого гения, который творит из области высшего мира – своей души» (Там же. С.194). «Великие откровения и красоты эллинов, которую они постигли своей традиционной школой в течение столетий» он ставил «выше нашей правды» (Там же). Иное дело, что «откровения» эти Семирадским и его единомышленниками использовались «в готовом виде» – и уже потому переставали быть откровениями, утрачивая при этом строгую простоту первоисточника. Похвальное стремление занять свою нишу апологетики идеальной красоты оборачивалось чистейшей воды эпигонством. И свидетельством тому – свидетельством косвенным, но симптоматичным – может служить то, что в творчестве Семирадского практически невозможно уловить логики развития – ни идеи, ни формы, блестящей, подкупающей глаз, но в сущности мертвой, ибо она не вырабатывает нового содержания, не открывает новых сфер ни уму, ни сердцу. Семирадский как поклонник античности не был одинок. Степан Бакалович в те же 1880-е годы создает свои лучшие картины – «Римский поэт Катулл, читающий друзьям свои прозведения» (1885, ГТГ), «В приемной у Мецената» (1890, ГТГ), – менее эффектные, а потому, возможно, более «теплые» и не вызывающие ни яростных споров, ни страстного отторжения у сторонников реализма. Стасов утверждает, что «условный, лакированный» мир избран и этим художником раз и навсегда – и в 1890–1900-е годы картины Бакаловича все те же (Стасов В. В. Избранные соч. :В 3 т. М.: Искусство, 1952. Т.3. С.226). Его «Гладиаторы перед выходом на арену» (1891, ГРМ) или «Моление Кхонсу» (1905, ГРМ) никаких принципиальных отличий от более ранних картин не обнаруживают. Дух мрачного десятилетия не оказывает на этих художников никакого воздействия, не проявляется в их творчестве. И ни один из них не создаст произведений, которые по масштабу были бы сопоставимы с историческими картинами русских реалистов. Может быть, исключением стал бы талантливый, но, к сожалению, рано умерший Василий Смирнов – отзвук настроений, царивших в русской исторической живописи «эпохи мысли и разума», можно при желании усмотреть в его «Смерти Нерона» (1888, ГРМ) – один из ведущих мотивов в исторической живописи 1880-х годов. В крупноформатном полотне господствуют горизонтальное членение и красный цвет – запекшейся алой крови, окрашенной «помпейской красной» краской стены… Молчание женских фигур – служанок и наложницы, стоящих над распростертым телом самоубийцы-тирана, сродни тишине смерти, кажется, нарушаемой лишь тихим шуршанием сухого листка, скользящего по мраморным ступеням. Три мертвых предмета – тело императора – сухой листок и «Мраморный мальчик с гусем» звучат тихим аккордом, предчувствием того гимна искусству, вечную ценность которого в сравнении с хрупкой тщетой людской суеты на сцене истории дано будет воспеть мастерам «Мира искусства».